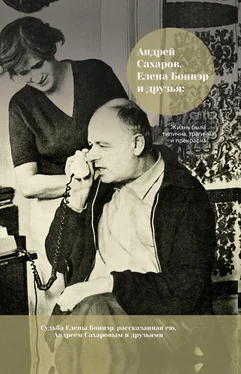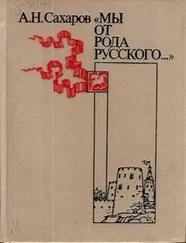Когда папу арестовали [52] Арестован 27 мая 1937 г. на работе. – Сост.
, нас сразу переселили из нашего четырехкомнатного «апартамента» в одну большую комнату окнами во двор на том же втором этаже. В «нэпманском» уже все было занято такими же «переселенцами». А на двери нашего номера появилась такая же печать. Она так и лезла в глаза, когда я проходила мимо. Там, за этой печатью, остались все книги, кроме детских. Их нам разрешил перетащить тот самый комендант, который когда-то изображал большую любовь к нашей семье. Остался и большой Батанин сундук, из которого она время от времени доставала серебряные вещи, чтобы снести в Торгсин, или какой-нибудь отрез, из которого папе надо было сшить «приличный костюм». Или мне шилась новая юбка из чего-то, добытого оттуда же. Этот сундук во время обыска запечатали, потому что у мамы не было ключей от него.
На следующий день приехала Батаня с Игорем. Наша домработница исчезла, потому что боялась, что ее «загребут» как монашку. Мы «переехали». И тут выяснилось, что в доме почти нет денег. Только немного у Батани, на которые она должна срочно ехать в Ленинград. Пришла (в эти же дни!) телеграмма, что у тети Любы [53] Боннэр Любовь Матвеевна (1898–1976) в замужестве Цигальницкая. « Тетя Люба – Любаня – была любимицей всей семьи, как мне кажется, не только потому, что была младшей, а за свою удивительную доброту, покладистость и отзывчивость. Была она большеглазой, со светлым лучистым взглядом, невысокой, даже маленькой, пухленькой, подвижной и легкой. Всегда казалось, что все она делает легко и все ей легко, хотя жизнь у нее была нелегкой. Ее муж много лет страдал тяжелым туберкулезом. Она рано овдовела и осталась с одиннадцатилетним сыном. Сын много болел, и с деньгами всегда было трудно. Зубной врач в детской консультации – не великий богач. На ее руках в блокадном Ленинграде умерла моя бабушка, и она же вывезла из него мою младшую двоюродную сестру. В Ленинграде мы жили совсем рядом, на одной улице, но не это определяло нашу близость, а ее характер. С ней нельзя было поссориться и ее нельзя было разлюбить .», – Е.Г. Боннэр, «Дочки-матери». – Сост.
умер муж. Мама на вопрос о деньгах никак не реагировала. Она вообще после ареста папы первые дни ни на что не реагировала. А Батаня рассуждала о том, что кое-что из сундука можно было бы продать, но теперь все пропало. И книги можно бы продать, хотя с книгами плохо. Она говорила, что все «такие» теперь таскаются с книгами. И садилась на своего конька, начинала рассуждать, что «им» надо бы уметь смотреть хоть на два шага вперед. Что «все это» разумный человек должен был знать заранее и хоть о детях подумать. Потом она смотрела на маму и вдруг умолкала.
А я придумала, как вернуть вещи. Но сказать боялась. Я пошла к нашим соседям из номера восемь. Сунаркин папа был арестован чуть раньше нашего, и они собирались куда-то уезжать (не успели, потому что еще через пару дней арестовали ее маму, а саму Сунарку забрали в детский дом). У них в комнате был балкон, на который выходило окно моей комнаты. Я договорилась с соседкой. Потом вечером привела Мику и Борю Баринова. Мы часа два кантовались где-то в необъятных коридорах нашего дома. А когда жизнь в доме замерла, пришли к Сунарке, через балкон влезли в нашу квартиру. И стали таскать книги – на балкон, потом в комнату, потом на цыпочках, бегом по коридору к нам. Потом мы тем же путем волокли сундук. Я думала, что мальчики с этим не справятся, такой он был неподъемный и никуда не пролезающий. Но пролез! Мы только продавили одно стекло. Я страшно испугалась, когда раздался звон. Но прохожих на улице не было, а в доме никто, видимо, не услышал. Батаня смотрела на всю эту процедуру тревожно, но не осуждающе. Мама продолжала молчать. Потные усталые мальчики собрались уходить. Я их вывела по черной лестнице во двор и вернулась. Мама опять молчала. Батаня сказала мне «умница» и дала сверточек, чтобы я выбросила в общее ведро на общей кухне. Я спросила, что в нем. Батаня не ответила, только взглядом показала на сундук. На нем уже не было трех бордово-коричневых печатей. Сундук как сундук – ничего особенного. Крепкий.
Прожил с нами в Ленинграде. Приехал в Москву снова. Всегда стоял у мамы в комнате. Теперь стоит у меня. Кто-то недавно сказал, что его давно пора выбросить. Ни за что! Во-первых: он, может, еще из Батаниного приданого. Во-вторых, свидетель, неживой, но свидетель .
Общее количество детей в «Люксе» уменьшалось не так быстро, как уводили взрослых. Семью перемещали в дворовый, «нэпманский» флигель. Спустя какое-то время обычно арестовывали маму. Потом ребенка увозили в детдом. Или его забирали родственники. А те, кто постарше – ну, вроде меня – обычно быстро сами куда-то уезжали. И иногда среди подростков шепотом звучал вопрос; «Ты не знаешь, куда смотался…» – далее шло имя, иногда русское, чаще иностранное. Так я спрашивала, куда смоталась Люся Чернина, и мне кто-то через чью-то еще не арестованную маму передал ее адрес. Она смоталась в Сталинград к тете. Я переписывалась с ней до войны и потом еще целый военный год, пока не получила сообщение, что «санинструктор Людмила Чернина пала смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины…». В Сталинграде! Люсина мама была вместе с моей в лагере. И потом я узнала, что Люся у них была приемная – детдомовская, любимая приемными, бездетными родителями. И умерла, не зная, что она – приемыш… (стр. 265–266)
Читать дальше