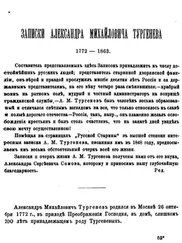– Новиков, виходи.
И, обращаясь к остальным:
– Что, белять, такой щалавек с вами едет, не нащли место хороший уступить?
Захлопывает решетку и уже сквозь нее:
– Это ж Новиков, который про извозчика пает. А вы сидищь тут, махоркам весь мазги пракурил.
Подталкивает меня в плечо:
– Давай за мной.
Дальше клеток нет, только служебный отсек. Вхожу за ним следом.
– Садысь. Со мной паедещь. Не возражаешь, хи-хи?
Опускаюсь на мягкую лавку.
– Ты распалагайся. Я пайду дела сделаю. Пасиды пока, газеты пачитай, вот. Сигареты, хочищь, кури. Зажигалка, вот.
Он уходит, и я оглядываю его жилище. На стенах – вырезки из журналов с девочками в купальниках и коротких юбках. Все как в обычной казарме. Закуриваю его сигареты с фильтром. Странный тип. Но добрый какой– то, веселый и рисковый. Если донесут о сегодняшнем – его или разжалуют, или отдадут под суд. А Поляков? Если на него донесут – уволят со службы без звания и пенсии, или тоже – под суд. Но ведь хорошие оба. Инструкции нарушают, закон нарушают. Но нравится Новиков – и плевать на все законы. Вот она – Россия. Хоть уралец, хоть горец: «нравится» – и закон не писан. И я, наверное, такой же. Оттого, видно, ее умом и не понять. Только сердцем. А если его нет, так и проживешь дурак-дураком, не поняв ни ее, ни граждан ее. Что по ту сторону клетки, что по эту.
Возвращается начальник. Снимает китель, принимается накрывать на стол:
– Сейчас пакушать будем. Тущенка есть, рыба кон– серва. Я тоже не ел с самый утра.
Открывает банки огромным ножом, пластает хлеб:
– Кущай, кущай. Сейчас чай заварю.
Вываливает горстями на стол конфеты:
– Ты не стесняйся. Каторый если скажет, что с начал– ник канвоя пить-кушать западло, таму пасылай на хуй. Ми все люди. А каторий не люди, таму объяснить беспалезна. Таму в рила нада дать, тагда панимает.
Поели, принялись за чай. Молча пить неудобно. Вкратце рассказываю свою историю. Больше всего его интересует, как подпольно записывали песни. Переходим на них. Он слушает, улыбается, кивает. Потом хитро сощуривается, сжимает руки под столом в кулак, выставляя большой палец и мизинец, и шепотом:
– А может, па сто грамм? У меня заначка есть.
– Нет, благодарю. Честное слово, не пью.
– Тогда адин маленький просьба… Можешь только для меня?.. Гитара нет, баян нет… Сейчас через минута приду.
Минут пять его нет. Гадаю, зачем ушел. И тут в дверь как по воздуху вплывает мандолина, а следом – сам начальник в улыбке:
– Гитара нет… Может, на этом.. Ну хоть один песня… Ну хоть один строчка… Вези меня, извозчик…
Мандолина иссохшая, обшарпанная, вдрызг расстроенная, в три струны. Настраиваю под три первые гитарные. Хозяин инструмента завороженно глядит мне на пальцы и молча ждет. Быстро подбираю по ладам мелодию «Извозчика». Так смешно, так трогательно и так слезно:
– Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай…
Больше похоже на балалайку. Брякаю трезвучиями виз– глявый аккомпанемент, и мы вместе поем: «Эй, налей-ка, милый, чтобы сняло блажь…»
– Можно, я дверь открою? Пусть все паслушать будут. Вагон уже все знает.
– Не надо.
– Харащо, харащо. Еще адин песня, очень прашу, про Вано, каторий по телефон домой звонил и «Волга» паку– пал за двадцать пять, хи-хи-хи…
Это был, наверное, самый благодарный слушатель. Так и запомнился: улыбчивый, с фуражкой на затылке. А еще больше запомнилась его мандолина: высохшая, горластая и безымянная. На которой я играю, как оказалось, лучше него.
– Я на нем брынчу мало-мало, когда чут-чут випью. Чтоб скушна в дороге не бил.
Несколько часов пролетели одним коротким мигом.
Колеса взвизгнули и встали. Вагон въехал в тот самый двор, из которого меня так любезно провожали с собаками.
Выкликнули первым меня – вероятно, тому поспособствовал мой конвойный начальник.
А дальше – как обычно: «стакан» в «воронке», тюремный предбанник, тюрьма, шмон, бетонный бокс и уже совсем другая камера под номером 526. В скором времени предстоял суд. Начиналась новая, самая зловещая часть истории.
Конец первой части
{продолжение следует)
Пробил час. К утру объявят глашатаи всенародно –
С опозданием на полвека – лучше все ж, чем никогда! –
«Арестованная память, ты свободна. Ты свободна!»
Грусть валторновая, вздрогни и всплакни, как в день суда.
Стой. Ни шагу в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам.
Нашу пуганую совесть захвати и поводи
В край, где время уминало кости Беломорканала,
Где на картах и планшетах обрываются пути.
В пятна белые земли,
В заколюченные страны,
Где слоняются туманы,
Словно трупы на мели.
В пятна белые земли –
Ожерелья Магадана,
В край Великого Обмана
Под созвездием Петли.
Это муторно, но должно: приговор за приговором – С опозданьем на полвека – приведенный отменять. Похороненная вера, сдунь бумажек лживых горы – Их на страже век бумажный продолжает охранять.
В них – как снег полки на муштре –топчут лист бумажный буквы,
Выбивая каблуками бирки, клейма, ярлыки.
А кораблики надежды в них беспомощны и утлы,
Их кружит и тащит, тащит по волнам Колым-реки.
В пятна белые земли,
В заколюченные страны,
Где слоняются туманы,
Словно трупы на мели.
В пятна белые земли –
Ожерелья Магадана,
В край Великого Обмана Под созвездием Петли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу