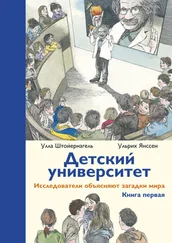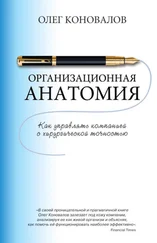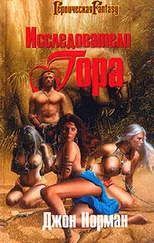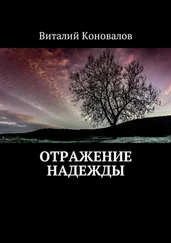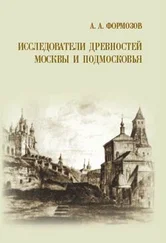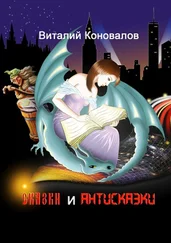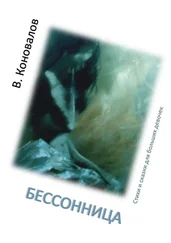В ЛЯР к Оганессяну я, правда, не попал, а стал работать в Лаборатории Нейтронной физики имени своего первого директора, Ильи Михайловича Франка, Нобелевского лауреата. Лабораторию эту как-то почтил визитом сам Нильс Бор в компании со Львом Ландау, и тогда работали еще люди, которые помнили этот визит… После некоторого периода дрейфа в поисках интересной темы я оказался в группе доктора физ.-мат. наук Юрия Сергеевича Замятнина и членкора Владимира Иосифовича Мостового, появляющегося наездами из Москвы, он тогда работал в Курчатнике. Обоим тогда было прилично за семьдесят, оба начинали свою карьеру в ядерной физике работой над «Устройством РДС-1», первой советской атомной бомбой… Становление ядерной физики прошло через их руки, удивительно, какие красивые и точные эксперименты они умудрялись ставить, особенно, учитывая, насколько лимитированы они были в аппаратуре и времени…
Юрий Сергеевич поступил на физфак МГУ еще до войны и был однокурсником Андрея Дмитриевича Сахарова. По семейным обстоятельствам в эвакуацию с Университетом не уехал, а работал в Москве на заводе. Когда вышел приказ отозвать с фронта всех ядерщиков, его с завода не отпустили – завод ведь не фронт – и он поехал к Курчатову. Не прошло и недели, как к заводу подъехал черный ЗиС с распоряжением «немедленно откомандировать Замятнина Юрия Сергеевича в распоряжение НКВД»; именно это ведомство заведовало ядерным проектом. ЗиС отвез его на Октябрьское поле, в «Лабораторию номер два». Скоро его перевели в Город, как называли совершенно секретный советский ядерный центр, где он снова встретился с Сахаровым. Они даже дружили семьями, пока, по словам Юрия Сергеевича, Елена Георгиевна Боннэр не вытоптала круг общения мужа, заменив его интересными и полезными ей людьми. Теперь уже и не проверить.
Юрий Сергеевич первым в СССР определил минимальную массу плутония, необходимую для создания ядерного заряда. Сделал он это под руководством Георгия Николаевича Флерова, который потом стал директором ЛЯР, а когда он скончался, его сменил Юрий Цолакович. Флеров открыл спонтанное деление урана, его работа над первым ядерным зарядом не может быть переоценена и потом именно он инициировал поиск сверхтяжелых элементов – но все-таки известен «дедушка» своим письмом Сталину, в котором он обосновывал необходимость срочно начинать работу над ядерным оружием, чтобы не отстать от Германии и Америки, которые уже эту работу начали. К такому выводу Георгий Николаевич пришел в Казани, в госпитале, обнаружив, что из научных журналов исчезли статьи по урану… Письмо это сыграло в СССР примерно такую же роль, как знаменитое письмо Эйнштейна Рузвельту. К вопросу о тесноте мира: в том же госпитале лежал мой дед, которого я не видел ни разу в жизни, Сергей Афанасьевич Адамович, раненый на Карельскм фронте…
Позже Юрий Сергеевич предложил метод «невзрывных цепных реакций», который позволил отказаться от полномасштабных ядерных испытаний – и сделал это на несколько лет раньше, чем до аналогичного метода додумались американцы. Надо ли говорить, какое преимущество получил Советский Союз в условиях «холодной войны» и гонки ядерных вооружений? Когда взрывали РДС-6С, «Слойку Сахарова», первый термоядерный заряд, точнее, систему «деление-синтез-деление», Юрий Сергеевич предложил радиохимический метод доказательства термоядерной природы второго деления, по концентрации симметричных осколков. Инициатива, как известно, наказуема исполнением, поэтому ему выдали «козлика», солдата-водителя и пустую консервную банку и отправили по радиоактивному следу, собирать «харитонки», застывшие капельки оплавленной породы, поднятой взрывом (эти стеклянные шарики назвали так в честь Юлия Борисовича Харитона, руководителя Института в Городе; во всем остальном мире они известны под названием «тринитрит», так как впервые они образовались во время испытания «Тринити», самого первого рукотворного ядерного взрыва на планете) … доказательство было получено, правда, ценой радиационных ожогов роговицы, последствия которых мучали его всю жизнь. Часть тех «харитонок» он хранил у себя в сейфе. Я их в руках держал, благо, почти все продукты деления к девяностым годам уже распались, только цезий остался…
Не очень удивительно, что Юрий Сергеевич был полным кавалером Ордена Трудового Красного знамени…
Владимир Иосифович всю жизнь проработал в Москве, в «Лаборатории номер 2», сейчас – Федеральный научный центр «Курчатовский институт», решал проблемы транспорта нейтронов, изобрел вращающийся щелевой нейтронный монохроматор и, кроме того, был Героем Советского Союза за подвиги на фронте. Он был артиллерийским разведчиком. Рассказывают, что Игорь Васильевич Курчатов, придя на его защиту диссертации, очень удивился, что она кандидатская, а не докторская. Ученый секретарь начал что-то лепетать про формальное оформление работы, на что Курчатов просто вырвал из нее титульный лист и написал от руки другой.
Читать дальше