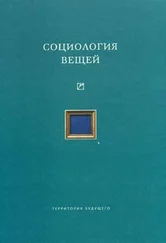1 ...8 9 10 12 13 14 ...32 Вопрос, следовательно, в том, так ли необходима для манифеста Эпштейна вера в преобразующую силу слова и только слова. Можно ли создать совершенно новое танцевальное движение, необычный жест, неожиданную последовательность аккордов, неординарное звучание певческого голоса, прихотливую портретную зарисовку, новый резной орнамент в камне, которые были бы эквивалентны его чудесным неологизмам (инфиниция, информатизация, ноократия, соразвод, ихносфера)? Распространяется ли творческая энергия преобразующей модели Эпштейна на язык нелингвистических выразительных систем? В самом деле, почему танцор, скрипач, художник-акварелист или архитектор должны думать или говорить только словами, а не движением, тоном, ритмом, красками, оттенками, силой звука, временны´ми и пространственными представлениями? В этих творческих сообществах вы находите некое произведение – и откликаетесь на него своим собственным. Слышите мелодию – и в ответ поете; вступаете в круг танцующих – и свое состояние выражаете движениями тела. Язык за зубами, а все-таки вы в полную меру общаетесь с людьми, разделяя их настроения, навыки, вдохновение. Если литературные гуманитарии заняты лишь поисками спасения друг друга, то с ними, разумеется, дело обстоит просто. Их оружие – слово. Устное или печатное, оно прокладывает себе путь: чтобы примкнуть к ИнтеЛнету Эпштейна, достаточно нажать клавишу. Это может стать для многих преобразующим началом, особенно для тех, кто верит, что наши самые смелые идеи и творческие прозрения рождаются словом и выражены в словах (или, случается, через отказ от них). Но многие формы творческого самовыражения не имеют ничего общего с вербальным языком. И в книге Эпштейна, как и в семиотике Юрия Лотмана, чувствуется междисциплинарное, космическое по масштабу стремление привлечь другие мощные выразительные средства – вот только как?
Два других спорных и поражающих воображение тезиса касаются древнейшей войны плоти и духа. Начнем с плоти. К острополемическим разделам книги относится часть третья, «Человек и машины», особенно глава 8 – «Судьба человека в постчеловеческую эпоху». Название, разумеется, ироническое – Эпштейн противник любых «пост-». Настоящая тема здесь – прототехногуманизм, понятие, полностью совместимое с гуманизмом, «поскольку самое человеческое в человеке – превосходить и технологизировать себя». Что из этого следует? Новая дисциплина «гуманология» разработает программу выполнения этой преобразовательной задачи. Коротко говоря, киборг, гибридный кибернетический организм, перестанет казаться монстром или карикатурой и станет восприниматься как усовершенствованное человеческое существо. И дальше: усовершенствованное существо подключено к источнику энергии, специально встроенные микроскопические устройства постоянно поддерживают его связь со средой, отвечающей его личным потребностям. Это уже не просто прославленный киборг, это произведение искусства. «Техногуманизм, – пишет Эпштейн, – обеспечит видовое выживание человека с помощью технологии как высочайшего рода искусства». Боюсь, что осуществление проекта, ставящего перед собой такие эстетические цели, – титаническая работа. Надо будет проститься со старыми моделями общения и научиться ладить с соседями, живущими в собственном времени и пространстве и почти не выходящими из дома. Придется оставить в прошлом старые представления о красоте человеческого тела, созданные героическими или откровенными скульптурами Древней Греции и картинами Рембрандта. Предстоит переопределить наше чувство прекрасного, выделяя когнитивное и конструктивное за счет чисто физических пропорций.
Здесь Эпштейн решается перекинуть мост от слов к иным коммуникативным средствам. Правда, вначале все же придется заявить о них «печатным способом». Имеющаяся в распоряжении инфосфера станет в конце концов «активной частью моего ума, – предсказывает он. – Я буду общаться с сетями, используя голос, жест, прикосновение, которые тоже станут частью бесконечно растущей и по-своему креативной памяти синтеллекта» (так Эпштейн называет комбинированные интеллектуальные возможности человека и машины). В главе 14, «От тела к „я“, или Каково быть тем, кто ты есть?», он предсказывает, что ноосфера («сфера мысли», вслед за геосферой и биосферой), возможно, когда-нибудь будет напрямую общаться с человеческим сознанием, «не нуждаясь больше в теле как посреднике». Это, конечно, удивительно слышать от гуманитария. Примиряет то, что Эпштейн в этом твердо уверен. Прямое общение может быть уже сегодня заменено дистанционным, через цифровых посредников, и управляться одновременно всеми участниками. В нашем распоряжении сегодня много новых средств и каналов, чтобы победить одиночество. Но, настаивает Эпштейн, будучи даже в критической отчужденности, человек всегда остается тем, что он есть. Его волнует не телесность как таковая, а тело знания, напрягшее мускулы, ускоряющее бег, способное взорваться энергией мысли. В главе 20 Эпштейн прибегает к великолепной метафоре, смело применяя эйнштейновскую формулу к гуманистике: «Энергия мысли извлекается из тела знания, производя многочисленные, быстрые, светоподобные, бесплотные, фиктивные, виртуальные комбинации из бывших его частиц». Кто станет отрицать, что великую мысль действительно можно иногда ощущать такой волнующей и подвижной. Противоречие возникает, когда начинаешь думать о равновесии между умом и телом, о контрасте между хрупким организмом, тщетно борющимся со старостью и немощью, и величественной неуничтожимой ноосферой, где участвуют все и нет побежденных. Захватывающая мысль – возможность стать протосверхчеловеком. Но освобождает ли она традиционное смертное тело от присущих ему волнений?
Читать дальше