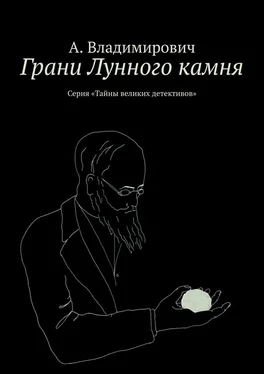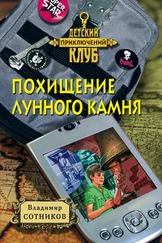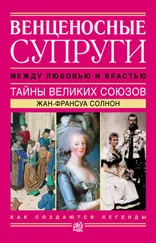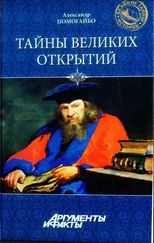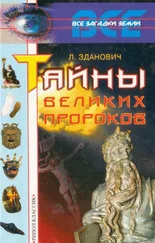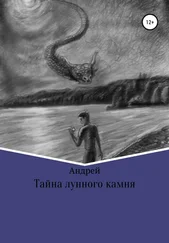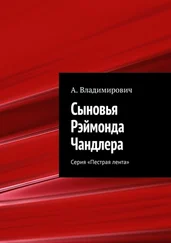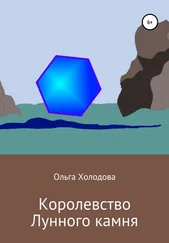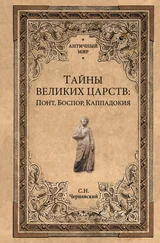Очевидно, слухи об успехе романа дошли до Диккенса, поскольку он резко изменил свое мнение о романе. До своего отъезда в Америку мастер как только мог нахваливал очередное творение своего друга и ученика, а после возвращения неожиданно нашел его «утомительным до невозможности».
Не думаю, что виной тому были синтаксические ошибки Коллинза, как это утверждает Питер Акройд. Полагаю, что причиной размолвки между Диккенсом и Коллинзом также не был бешеный спрос на роман. Причина подобной перемены настроения лежит гораздо глубже, вероятно, в делах личных. А потому позвольте поиску мотивов этой ссоры, я посвящу отдельную главу этой книги.
Некоторые критики высказывают предположение, что свой последний опус, незаконченный роман «Тайна Эдвина Друда», Диккенс строил по лекалам заимствованным у Коллинза. Это утверждение, на мой взгляд, вызывает сомнения. Во-первых, роман Диккенса остался незаконченным, а потому трудно предположить, как мастер мог развернуть сюжет и чем могла закончиться эта невероятно таинственная история, а потому утверждать о полной идентичности не вполне корректно. Скорее, можно говорить о том, как Коллинз нащупал базовые основы нового жанра, который появится в литературе гораздо позже, а Диккенс лишь подхватил эту волну. Но я не могу назвать «Лунный камень» детективом, по целому ряду причин, которым я посвящу еще одну главу моей книги.
А пока давайте вернемся к жизни Уилки Коллинза и невероятно загадочной истории появления романа мало похожего на другие сочинения английского писателя.
Глава вторая, о «Змеином камне» и алмазе «Орлов»
Среди рукописей «Лунного камня» можно найти и другие варианты названия: «Глаз змея» или еще «Змеиный камень». Целый блок заметок автора, которые цитирует Дэйвис, касаются божеств в виде змея и «поклонения змеям». Биограф пишет, что Коллинз «скопировал отрывки о преступлениях, совершенных ради обладания индийскими алмазами, и суевериях, связанных с этими камнями, о проклятиях, окружающих такие крупные экземпляры, как Кохинур и Орлов». Однако позднее Уилки заменил название на более романтичное, а «змеиную идею» игриво перенес в заглавие одного из трактатов мисс Клэк – «Домашний змий». К исследованию причин и мотивов Коллинза сделать бриллиант главным героем своего романа мы вернемся позднее, а пока давайте познакомимся с историями, неизменно сопровождавшими драгоценные камни.
***
Добыча алмазов в Индии велась с незапамятных времен. Их добывали не из горных пород и не в глубоких шахтах – большей частью просто находили в руслах горных речушек, просеивая песок. Вода сама доставляла бесценные самородки на поверхность, и опытный глаз мог приметить характерный блеск в толще песка.
Есть свидетельства, что уже в древний Египет и Китай доставлялись индийские алмазы и использовались в качестве сверхпрочных инструментов или драгоценных украшений.
У себя на родине алмазы приобрели статус, близкий к божественному. Согласно «Гаруда-пуране», индуистскому трактату, окончательно сформировавшемуся в IX—X веках нашей эры, демон Бала согласился принести себя в жертву на благо Вселенной, и когда ему отрубили конечности, они превратились в «семена драгоценных камней». Боги бросились собирать «семена», отчего на небе случилась небывалая гроза и буря, а некоторые «семена» даже просыпались на землю. В трактате утверждается, что драгоценные камни обладают божественными качествами: могут искупать грехи, излечивать от змеиных укусов или болезней. Алмазы считались величайшими из них, поскольку в их частицах обитали божества. Древние индийцы верили, что обладатель такого самоцвета будет невероятно удачлив в семейной жизни, в трудах и в любом деле, за которое примется.
Однако в записанной веком спустя «Вишну-пуране» мнение о драгоценных камнях как дающих иммунитет от любых несчастий кардинально изменилось – теперь они притягивают воров и грабителей, а также могут побуждать человека к убийству.
Самым вожделенным считался легендарный Шьямантака, «принц среди драгоценных камней», который называют то огромным алмазом, то рубином, вызывающим зависть, жадность, стремление к насилию. Именно эти самые негативные проявления человеческого характера позднее сопровождали историю «Кохинура», правда, уже не в сказках, а в реальности. Данный «культурный троп» перекочевал из индийской литературы в английскую журналистику и наводнил массовое сознание после того, как «Кохинур» получил статус королевской регалии.
Читать дальше