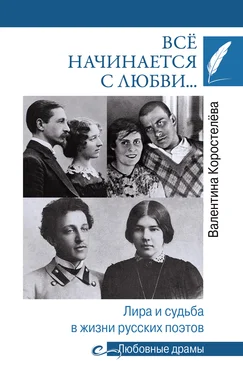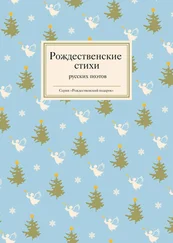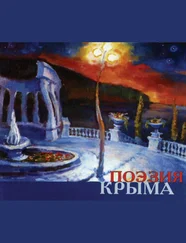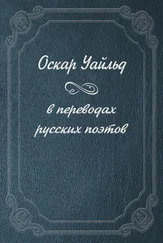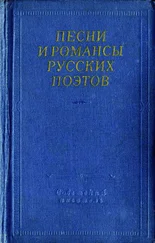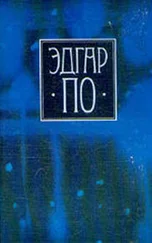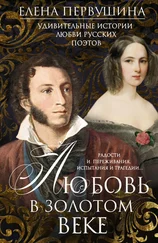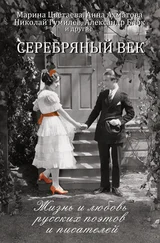– Министра народного просвещения.
– Как министра? – удивился прохожий. – Министр просвещения, господин Уваров, живой, я его сегодня видел.
– То – не настоящий министр. А настоящим министром народного просвещения был баснописец Крылов.
Согласитесь, такая оценка человека из народа стоит дорогого.
Но обратимся снова к басням.
«А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом, —
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился», —
говорит осёл соловью, послушав трели «народного артиста» Лесной республики. И басня заканчивается словами: « Избави, бог, и нас от этаких судей ». К сожалению, петушиное пение и нынче всерьёз принимается многими за настоящее искусство со всеми вытекающими. Так называемые звёзды – от села до столицы – заполонили большую часть культурного пространства, о чём недавно сокрушался в интервью прекрасный актёр Василий Лановой и что становится уже предметом многих дискуссий. И тут басни Крылова делают своё – помогают на многое взглянуть со стороны, вспомнить вечные ориентиры: честь, достоинство, гражданское мужество, которое даром никому не даётся, как не давалось и Крылову. Владея всеми оттенками народного слова, Иван Андреевич фантастически ярко и точно одним-двумя словами создавал портрет «героя», раздвигая сами горизонты литературной речи, смело пользуясь и фольклором, будь то пословицы, поговорки или просто удачные речевые обороты.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало.
(«Музыканты»)
За пьесы, обличающие пороки современного общества, его подвергали злой критике, ставили всевозможные препятствия, лишь бы не допустить до сцены. Немало душевных сил отнимало издание с другими писателями таких сатирических журналов, как «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Одно время над Крыловым был установлен полицейский надзор. Вот почему всё чаще Иван Андреевич стал доверять свои мысли и мнения героям басен, которые в конце концов и сделали его истинно знаменитым. Не случайно Варвара Алексеевна Оленина, одна из дочерей того самого Оленина – члена Государственного Совета и так далее, вспоминает в своих записках: «Я осмелилась раз, еще в юных летах, заметить И.А. Крылову, зачем он выбрал такой род стихотворений. Отвечал он мне: “Ах, фавориточка: ведь звери мои за меня говорят”. (Кто не знает, поясню, что фаворит – человек, особо приближённый к очень значительной особе, в данном случае – государыне.)
Цитаты из басен расходились по Северной столице быстрее курьерской почты, становились на века крылатыми:
А вы, друзья, как ни садитесь, —
Все в музыканты не годитесь.
Великий зверь на малые дела.
(А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился.)
Думаю, у каждого по этому поводу есть свои примеры из сегодняшних дней.
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Как белка в колесе, —
(Это уж, конечно, про нашу женщину).
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
А воз и ныне там.
Меня весь муравейник знает.
В нынешние времена, когда звёздная болезнь поражает многих, подобно гриппу, очень актуальна басня «Муравей», где главный герой хочет снискать славы не только у себя дома, но и в городе. И вот чем это закончилось:
…Уставши, наконец, тянуться, выправляться,
С досадою Барбосу он сказал,
Который у воза хозяйского лежал:
«Не правда ль, надобно признаться,
Что в городе у вас
Народ без толку и без глаз?
Возможно ль, что меня никто не примечает,
Как ни тянусь я целый час;
А, кажется, у нас
Меня весь муравейник знает».
Кажется, нет такой жизненной ситуации, на которую бы не отозвался Иван Андреевич. Не случайно «неистовый Виссарион» (Белинский), слова которого и ждала, и побаивалась литературная общественность, в своей статье отметил: «Кто-то и когда-то сказал, что «в баснях у Крылова медведь – русский медведь, курица – русская курица»: слова эти всех насмешили, но в них есть дельное основание, хотя и смешно выраженное. Дело в том, что в лучших баснях Крылова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, кажется, и действуют в них, но есть люди, и притом русские люди… Хотя он и брал содержание некоторых своих басен из Лафонтена, но переводчиком его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала в русские формы и все проводила через русский дух. Честь, слава и гордость нашей литературы, он имеет право сказать: «Я знаю Русь, и Русь меня знает», хотя никогда не говорил и не говорит этого».
Читать дальше