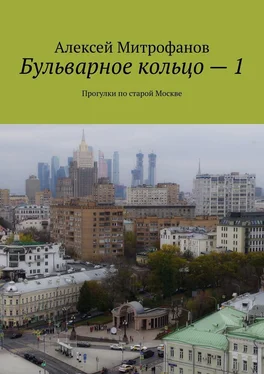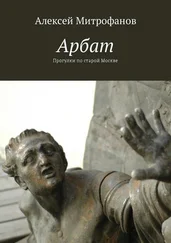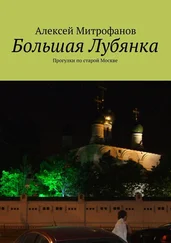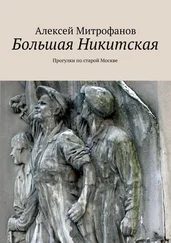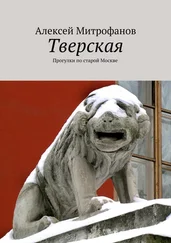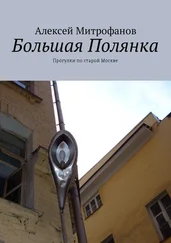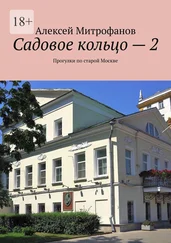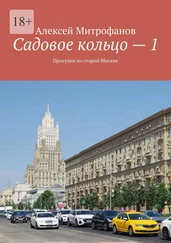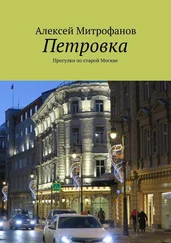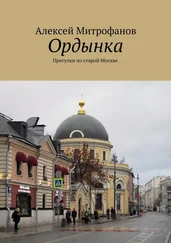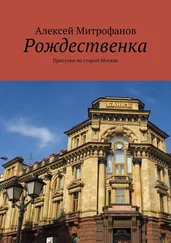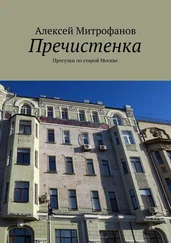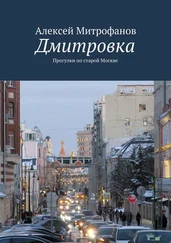Если в Большом зале происходит какой-либо съезд, то арена также заполняется креслами, и вся середина зала превращается в сплошной партер. И наоборот: весь партер можно, в случае необходимости, освободить от кресел; тогда получится громадная арена диаметром в 42 метра. Кроме того, для сценических надобностей используется сектор мест президиума, а также межколонные пространства, расположенные за амфитеатром. Эти пространства весьма значительны. Так, например, площадь между двумя колоннами равна большой сцене Московского Художественного академического театра. Она имеет в ширину 12 метров и в глубину – 7 метров.
Круглая форма зала не позволяет устроить обычную театральную сцену, позади которой находятся декорационные мастерские, артистические уборные и пр. Все это здесь расположено внизу, под ареной, в так называемом трюме. Он занимает обширную площадь под Большим залом, и глубина его, считая от пола партера, достигает 14 метров.
Одним из наиболее примечательных сооружений, находящихся в трюме, является кольцевой конвейер. Он представляет собой большое кольцо, внутренний диаметр которого равен 57 метрам, а внешний – 77 метрам. Таким образом, ширина кольца составляет 20 метров. Весь конвейер опирается своими ходовыми колесами, идущими в четыре ряда, на круговой четырехрельсовый путь и может при помощи моторов вращаться и по часовой стрелке и в обратном направлении.
Под огромным сводом, вверху, возможен показ цирковых аттракционов, демонстрирование работы краснофлотцев на реях и пр.».
Как известно, строительство было приостановлено с началом Великой Отечественной. Пастернак вспоминал: «Деревянная ограда площади, за которой кое-где стал подниматься металл будущего каркаса, временем и человеком была местами повреждена, и в щели можно было видеть эти большие черные поля, там, внизу, чаще всего покрытые большими озерцами дождевых или грунтовых вод; эти воды стояли и цвели, обновлялись, заливали другие пространства; из них островками выставлялись наружу бетонные скалы опор, какие еще без железной надстройки, какие – особенно ближе к Кропоткинской площади – с начатками каркаса. От года к году это зрелище теряло остроту своей новизны и анекдотичности.
Не знаю, действительно ли в этих озерцах стали водиться караси, как ходили слухи, но, видно, какую-то рыбешку кто-то и вылавливал!»
Такое вот фантасмагорическое окончание величайшего архитектурного проекта того времени.
* * *
По иронии судьбы на месте этих вод в 1960 году построили бассейн. Открытый. Под названием «Москва». Сразу же возникла поговорка: «Был храм, потом хлам, теперь срам». Верующие москвичи, конечно, осуждали желающих поплавать в этой теплой «луже» в самом центре города. Что их, разумеется, не останавливало. Бассейн имел успех. Поговаривали о существовании некой группы христианских мстителей и мстительниц, которые, якобы топили в бассейне людей. Но это все таки из области городских страшилок. Говорили также о вреде, который представляет пар для картин музея изобразительных искусств и редких книг Российской государственной (в то время – Ленинской) библиотеке – это ближе к истине.
И новые путеводители по городу, с тем же пафосом, с которым совсем недавно воспевали главную стройплощадку Москвы, принялись посвящать гимны новому социокультурному объекту: «Участок берега между Кропоткинской набережной, Волхонкой и Соймоновским проездом занимает парк с открытым бассейном посередине. Это самый большой плавательный бассейн в Европе, вмещающий одновременно до двух тысяч человек. Объем воды в нем – 24 тысячи кубических метров. Вокруг бассейна – пляж, усеянный морской галькой. На плоских крышах павильонов – солярии».
Поэт Алексей Дидуров, которому довелось поработать в бассейне спасателем, вспоминал: «У бассейна „Москва“ был режим работы и жизни обратный режиму ресторанов и кафе: в них главное, престижное время от века и по днесь – вечера, а день – холостой: семейные, пенсионерные, ветеранские, трудовые – в обеденный перерыв на производстве и в конторах, – обеды по прозванию „комплексные“, наспех сляпанная дешевка, а уж вечером – страда, вкалывание до пота на барыш и кураж. Бассейн же наоборот по вечерам запускал внутрь себя публику того сорта, что дневала в общепите, и становился (не из-за своего ли отношения к этому двуногому ширпотребу массовой категории?) похож, особенно в холода, на огромный чан в аду, паром дымящийся над плавающими головами, кажущимися сваренными из-за стандартных розовых резиновых шапочек. А над ними по краям чана, – руки в боки, – дежурные по секторам, „дежи“ – чем не черти-смотрители. Жутковатое зрелище».
Читать дальше