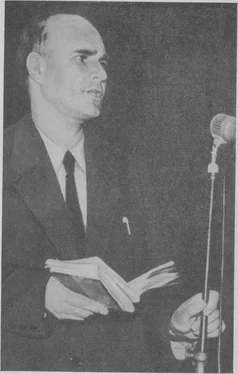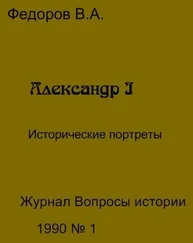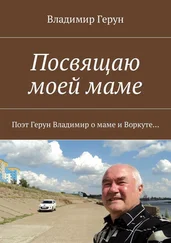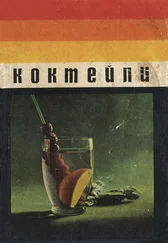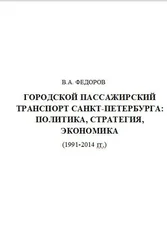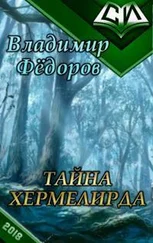Мне рассказали интересный случай. Один самовлюбленный автор гордо заявил, что он написал сто песен.
— А это автор одной песни, — лукаво указали товарищи на Букина.
— Всего одной? Какой же?
— «Прощайте, скалистые горы…»
Самовлюбленный автор ста песен потупил глаза. Его многочисленных творений никто не знал, а «Прощайте, скалистые горы…» пел и поет весь народ. Дай бог каждому написать одну такую песню!
Наши моряки и солдаты вернулись и в освобожденный Севастополь, и на скалистый полуостров Рыбачий. А впереди еще лежал дальний нелегкий путь. И если тоска по дому звучала в «Землянке» Алексея Суркова, то думы солдата в походе, пожалуй, лучше всего переданы в «Дорогах» Льва Ошанина. Недаром они так полюбились моим однополчанам, с полной выкладкой шагавшим по степным дорогам Венгрии, по гористым тропкам и автострадам Австрии и Чехословакии.
На вооружении наших солдат были и радость, и светлая человеческая грусть. Уже за Дунаем мы все еще пели широкую, волнующую «Песню о Днепре» Евгения Долматовского.
Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза…
А после войны солдатскую душу захлестнули необыкновенно чистые песни Михаила Исаковского и безыскусные песни Алексея Фатьянова.
Но рядом с этими песнями рос буйный лирический бурьян. Он даже грозил заглушить нежные и скромные цветы настоящей поэзии, что не раз беспокоило такого требовательного и чуткого песенника, как Михаил Исаковский. Настоящее чувство в песнях–скороспелках обращалось в чувственность, а красота — в пустую внешнюю красивость. Приторная патока этих завывающих песенок вызывает тошноту.
Недавно мне довелось видеть трогательную сцену в издательстве «Советский писатель». Виктор Боков привел в отдел поэзии самородка–композитора с баяном, и тот запел. Заведующий отделом поэзии, младшие и старшие редакторы поневоле стали подпевать. Попробуй не запой, если песня так и будоражит душу!
Неистощим могучий океан советской песни. А если он и выбрасывает иногда на прибрежную гальку пузырящуюся пену, то такие пузырьки живут одно мгновение. И лопаются. Главное, чтобы не обмелели души тех, кто написал хотя бы одну настоящую песню.
Учителем юного Кешокова был основоположник кабардинской литературы Али Шогенцуков. Он учил Алима и его сверстников родному языку в школе–интернате. Внимательный, отзывчивый учитель «заразил» своих воспитанников любовью к поэзии.
— Он жил с нами в общежитии, — вспоминает Кешоков. — Часто собирал нас у себя и читал стихи. Доставал из–под подушки объемистые книги на русском языке и переводил их нам. Это были стихи Пушкина и Лермонтова. С замиранием сердца мы слушали историю мальчика из поэмы «Мцыри», а в каждом молодом цыгане видели Алеко. Может быть, поэтому десять лет спустя первыми произведениями, которые я перевел на родной язык, были поэмы «Цыгане» и «Мцыри».
Начал Кешоков с подражания своему любимому учителю Али Шогенцукову. «Писать, как Али!» — решил юный поэт, но вскоре понял: «Как Али, другой писать не может». Начались мучительные поиски. Очень уж хотелось Алиму выпустить первую поэтическую книжку и на вырученные деньги построить новую школу в родном ауле Шалушка. Ведь самому ему начинать учение пришлось в бывшей кулацкой конюшне… На всю жизнь в поэте укоренилась эта благородная черта: сделать доброе дело для своих земляков, для читателей, для всех советских граждан. Писатель и общественный деятель в Алиме Кешокове нерасторжимы.
Грянула Отечественная война, и Алим Кешоков надел боевую гимнастерку, а в походной сумке лежала его первая поэтическая книжка «У подножья гор». Во фронтовом стихотворении «Счастье» он говорит:
И я вступил на путь бойца.
И нет пути тому конца.
В боях за Советскую Родину сложил свою голову учитель Кешокова — Али Шогенцуков. А его ученик в начале войны редактировал военную газету «За Родину» на кабардинском языке. В дни ожесточенных боев за Сталинград Кешоков стал работать вместе с даровитым балкарским поэтом Кайсыном Кулиевым в армейской газете. Здесь появились его очерки и рассказы на русском языке и переводы его фронтовых стихов.
Первая послевоенная книга Алима Кешокова называлась «Путь всадника». Так в Кабарде называют Млечный Путь.
Наездников умелых много тысяч
Добром земля могла бы помянуть,
Но кто из них сумел отважно высечь
На вечном небосводе Млечный Путь?
О, если б мне чудесный конь достался,
Не стал бы я на нем сидеть в седле:
Вскочил бы на хребет его, помчался
И Млечный Путь провел бы по земле.
(Перевод С. Липкина)
Читать дальше