Коллега А. Да. Я хочу обосновать закон возрастания энтропии, исходя в первую очередь из теории вероятностей. Определение вероятности состояния любой системы, как тебе известно, имеет исключительно важное и принципиальное значение, так как дает возможность судить о направлении процессов, протекающих в системе. Чем больше, например, степень неупорядоченности движения отдельных частиц какой-либо системы, тем больше вероятность этой системы, ибо тем большим числом состояний она может быть представлена. Без внешних воздействий любая система всегда стремится перейти из менее вероятного состояния в более вероятное, т. е. в такое, которое чаще всего встречается.
Если, например, какое-либо тело имеет с одного конца температуру более высокую, чем с другого, то этому состоянию, как известно, соответствуют более высокие, в среднем, скорости молекул там, где температура выше, и. более низкие скорости молекул там, где температура ниже. Число состояний, отвечающих этому условию, конечно, очень велико. Но можно со всей математической строгостью доказать, что оно значительно меньше числа состояний, при которых молекулы самых разнообразных скоростей распределены по всему объему тела, т. е. когда температура тела по всему его объему одинакова.
Первое состояние, безусловно, менее вероятно, а второе более вероятно. Именно поэтому разность температур внутри любого тела сама собой стремится выравняться.
Именно поэтому мы никогда не наблюдаем самопроизвольного возникновения различных температур в каком-либо теле, которое до этого находилось при одинаковой температуре.
294
Коллега Б. Само собой разумеется, что теорию вероятностей можно приложить к рассмотрению бесчисленного множества процессов. Однако я не сторонник универсального объяснения всех явлений природы выводами одной только этой теории. Если, например, положить два шарика — один черный и один белый — в ящик и начать покачивать его, то можно с уверенностью сказать, что никогда, ни в какой отдельно взятый момент времени эти шарики не могут быть равномерно распределенными по дну ящика. Ни белый, ни черный шарик не может находиться одновременно и в левом углу ящика и в правом.
Никакая теория вероятностей тут не поможет. Для выполнения такого условия и черный и белый шарики должны были бы расколоться по крайней мере пополам, т. е. перестать быть тем, чем они на самом деле являются.
Но, с другой стороны, если вести очень длительное наблюдение за состоянием тех же шариков в качающемся ящике, то, исходя из теории вероятностей, можно сделать вывод, и это будет правильный вывод, что белый и черный шарики равномерно распределены по всему дну ящика. В любом из участков дна этого ящика белый шарик побывает ровно столько же раз, сколько и черный. Вот и выходит: процесс один и тот же, а выводов по нему можно сделать два и притом совершенно противоположных.
Коллега А. Конечно, второй закон термодинамики носит не абсолютный, а статистический характер, поэтому при наблюдении объектов с небольшим содержанием частиц или молекул возможны отступления от него.
Броуновское движение это очень хорошо иллюстрирует.
Коллега Б. Для меня очень важно, что ты не придаешь теперь второму началу термодинамики абсолютного характера хотя бы в области микромира. Но своим примером с черным и белым шариками я хотел подчеркнуть совсем другое. Я хотел сказать, что за статистическим результатом наблюдения какого-либо процесса мы можем иногда не разглядеть истинной природы явления.
Картина электронного облака в атоме является, безусловно, статистической, и она правильно описывает распределение плотности электрического заряда вокруг ядра, но этим она не раскрывает еще природы самого электрона, природы единичных актов движения электрона в атоме.
295
Коллега А. Поскольку во всех реальных телах окружающего нас мира находится не единичное количество атомов и молекул, а огромное их число, то мы вправе ожидать в них только такие процессы, которые ведут к высшей степени неупорядоченности. Только такие состояния отвечают наибольшей вероятности. Тепловое равновесие, как самое вероятное состояние, лишь наиболее убедительно иллюстрирует эту закономерность.
Конечно, и в нем с точки зрения теории вероятностей возможны отступления, но они столь же невозможны, сколь и невероятны. Подсчитано, например, что даже в одном кубическом сантиметре объема такое событие, как перемещение всех молекул воздуха в верхнюю его половину, может произойти лишь один раз на lO 30000000000000000000случаев. Такую цифру невозможно даже мысленно представить себе — настолько она огромна. Это еще раз говорит о том, что не следует делать различия между «невероятным» и «невозможным».
Читать дальше
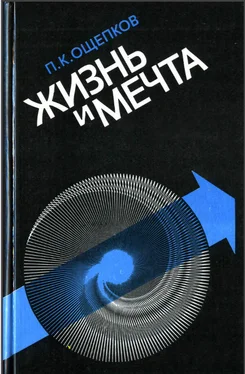



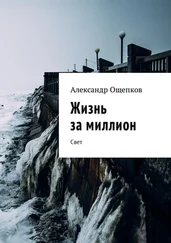
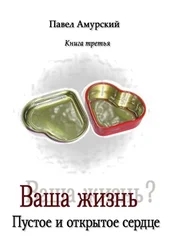
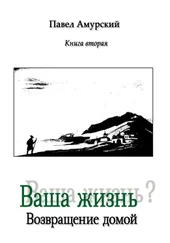
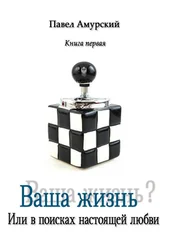
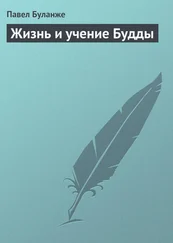

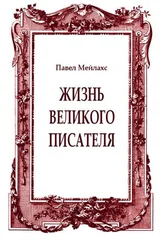
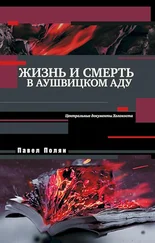

Уже в 70-е годы прошлого века и далее в восьмидесятые годы работая на гражданке в структуре СО АН СССР, я прочёл книгу П.К.Ощепкова ЖИЗНЬ и МЕЧТА.
Книга потрясла откровениями автора о сложном пути становления и развития разработок радиолокации, т.е. технического ясновидения и дальновидения от идеи до первых экспериментальных установок впервые в мире созданных в СССР/России.
Потрясла фраза из книги: "А потом я 10 лет радиолокацией не занимался". Она не давала нормально спать.
Поэтому нашёл автора в Москве уже в преклонном возрасте, познакомились, подружились. Два шкафа папок с наградами и поощрениями П К.Ощепкова к юбилейным датам жизни. Его жена - бывший полковник разведки, а портреты Ощепкова и жены увидел ра передвижной выставке в Историческом Музее в центре Москвы среди лиц, внёсших основополагающий вклад в Победу над фашизмом. Получил от Ощепкова при беседах у него дома ответ, почему он 10 лет не занимался радиолокацией, заложил её основы. Но это отдельная тема для правдивой истории техники. Возможно напишу книгу.
Побывал на одном из заседаний его Общественного Института Энергетической Инверсии. Поражён был новыми замысламииавтора по ведению в невидимо и по энергетике Будущего. Много было недоброжелателей по радиолокации, интроскопии, сегодня этим никого не удивишь, даже школьники объяснят, что такое радар, УЗИ и дефектоскопы, позволяющие видеть в невидимо (внутренние органы человека, внутренние дефекты в рельсах и т.д.). Энергоинверсиию до сих пор шельмуют многие современные учёные и кака-демики. Но истину в науке добывается не числом голосов, а экспериментом, теорией, практикой.