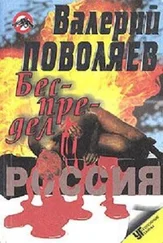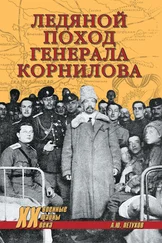Под ним убили лошадь, он пушинкой вылетел из седла, распластался среди трупов. По цепи понёсся горький крик: «Корнилов погиб!» Но Корнилов был жив, когда ему подвели нового коня, командир, прихрамывая, обошёл его кругом, похлопал по морде, сунул в зубы кусок сахара и забрался в седло. Через полчаса дивизия была уже в немецких окопах, а на рассвете перешла в наступление и погнала противника дальше. Взяты были трофеи и несколько тысяч пленных.
— Всё это было, было, было, — со вздохом произнёс Аверьянов. — Не верю, что Корнилов может пропасть без вести, погибнуть... Он жив. Жив!
Генерал Аверьянов был прав. Корнилов не погиб. Из семи тысяч человек дивизия потеряла в последних боях пять тысяч — столько душ она положила, выходя из окружения; потеряла также тридцать четыре орудия. (Впоследствии Корнилов написал в своём докладе: «Полки дивизии отбивались на все стороны, имея целью возможность дороже отдать свою жизнь и свято выполнить свой долг перед Родиной.
48-я дивизия своей гибелью создала условия для благополучного отхода тыловых учреждений XXIV корпуса, частей XII корпуса и соседних с ним частей 8-й армии».
Корнилов выручил многих, но на помощь к нему самому не пришёл никто.
Тем не менее позже нашлись люди, которые попытались свалить на него вину за карпатские промахи и поражения.
Среди этих людей был и генерал Брусилов).
Армия Радко-Дмитриева была разгромлена целиком.
Хотя дивизия Корнилова полегла едва ли не полностью в тех тяжёлых боях, полки её вынесли все свои знамёна. Раз знамёна сохранены — значит, и дивизия сохранена. Так по воинским законам было всегда. Из окружения вышел только командир Очаковского полка Побаевский.
Дивизию, лишившуюся своего начальника, принял новый командир — генерал-лейтенант Новицкий.
А Корнилов с остатками Рымникского полка ухолил на север, отбивался от немцев, мадьяр, австрийцев штыками — не было ни одного патрона.
Апрельские ночи в Карпатах — тёмные. Как только на землю опускалась ночь, и сами окруженцы, и те, кто окружал их, прижимались к земле, в ямах разводили костры, чтобы не было видно пламени, и затихали до утра.
На немецкой стороне в воздух взвивались осветительные ракеты — шипящие бледные шары, легко протыкавшие низкие чёрные облака, — некоторое время ракеты освещали дрожащим слабым сиянием заоблачную пустоту, затем горелыми жалкими комками шлёпались вниз, на сырую холодную землю. Всё, что попадалось людям под ноги, было скользким, скользило, уходило в сторону из-под ноги всё: и старый рыжий мох, и гладкие, будто бы облитые глазурью валуны, и стволы поваленных деревьев с отслаивающейся корой. Солдаты срывались с глиняных и каменных круч, молча уносились вниз — случалось, разбивались насмерть, — поэтому ночью все старались отсиживаться на временных стоянках.
Ранним утром двадцать пятого апреля обнаружилось, что ночь провели по соседству с батальоном горных егерей — щекастыми, двухметрового роста парнями, умело пиликающими на губных гармошках; как только сумеречный свет наступающего дня коснулся макушек елей, егеря достали из карманов гармошки и самозабвенно запиликали на них.
Рымникцы собрались, сгрудились вокруг генерала. Тот сидел на пне и, опершись на палку, мрачно разглядывал перед собой пространство.
— Ваше высокопревосходительство, что будем делать?
— Прорываться, — спокойно ответил Корнилов.
— У нас нет ни одного патрона.
— А штыки на что? — Корнилов приподнял палку, словно собирался проткнуть ею холодный воздух, подержал несколько мгновений на весу, затем опустил. — Выдающийся русский полководец Суворов Александр Васильевич всегда штык ценил выше пули и, случалось, сам, несмотря на слабое здоровье, ходил в штыковые атаки. — Корнилов вновь приподнял палку, стукнул ею о камень. — Немцев же Суворов бивал так, что те потом, слыша его имя, начинали чесаться.
Голос у начальника дивизии был спокойным, ровным, почти лишённым красок, это был голос человека, который прошёл длинный путь и очень устал — надо бы ему в такой ситуации отдохнуть, но отдых не предвиделся, он это знал и смирился с тяжестью своей судьбы.
Корнилов подумал о том, что в его револьвере тоже нет ни одного патрона — всё расстрелял во время последнего прорыва, теперь он жалел об этом: если его попытаются взять в плен, то не будет пули, чтобы пустить её себе в лоб. Он ощутил, как у него дёрнулась щека, приложил к ней руку, затем втянул сквозь зубы в себя воздух — этим простым приёмом приводил себя, свой организм в чувство, — опёрся на палку, поднялся. Пару револьверных патронов надо всегда держать в нагрудном кармане кителя — для собственных нужд, — а он оказался не на высоте, обмишурился, расстрелял все патроны, ничего себе не оставив.
Читать дальше