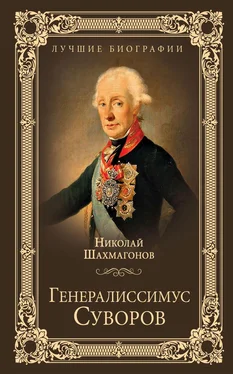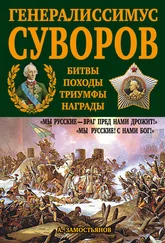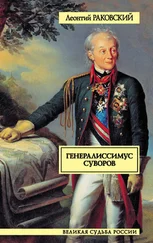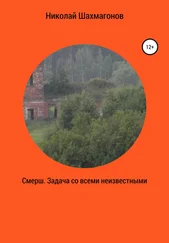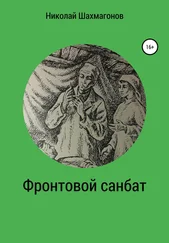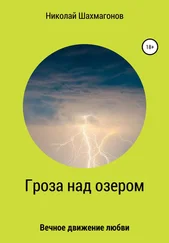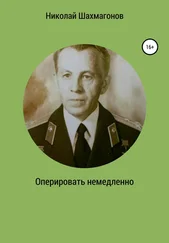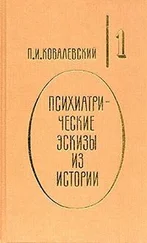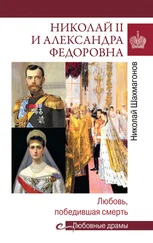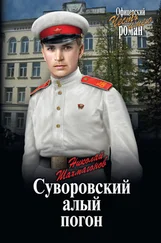Не в первый раз приходится русскому народу сталкиваться с немецкой агрессией. Семьсот лет назад на Чудском озере русские воины раздавили пресловутый железный клин тевтонцев; малороссийские казаки в XVII веке били под Корсунью и Пилявцами наёмных немецких рейтаров; в XVIII Фридрих II был неоднократно бит русской армией; в XIX веке пруссаки вторглись в Россию в составе приведённой Наполеоном армии «двунадесяти язык» и вместе с нею были изгнаны с позором. На нашей памяти немецкие сапоги снова топтали русские и малороссийские поля в 1915 и 1918 годах; и всякий раз яростный натиск германцев оканчивался для них плачевно. Достаточно отметить простой факт: как бы ни были подготовлены нападения германцев, им ни разу не удалось удержать ни пяди русской земли. Борьба с русским народом всегда заканчивалась для них полным поражением.
В дни, когда на свободную Советскую страны снова двинулись полчища германских варваров, память и воображение наше воскрешают образы тех, кто в прежние годы стоял на страже родной земли. И среди замечательных военачальников, выдвинутых русским народом, одно имя особенно приковывает наше внимание.
Суворов – эти три слова звучат как апофеоз русского военного искусства, как победный клич и вечное напоминание о непоколебимой мощи русского оружия.
28 июня 1941 года. Автор».
Война резко изменила положение дел. Был учреждён орден Суворова трёх степеней, были созданы в 1943 году Суворовские военные училища, а после войны, в 1950 году, и 120-летие со дня рождения и 150-летие со дня смерти великого русского полководца были отмечены на высоком государственном уровне.
А далее снова разночтения, на которые указано выше. Можно лишь добавить, что в Советской исторической энциклопедии (1971) тоже указан 1729 год.
Наконец, в 1979 году было решено на высоком уровне считать годом рождения 1730 год, что, несмотря на причины этого экстренного пересмотра, оказалось окончательным установлением истины. В 2004 году на научной конференции в мемориальном музее Суворова в Санкт-Петербурге, посвящённой «275-летию» со дня рождения генералиссимуса, было установлено, что дата, указанная самим Суворовым, то есть 13 ноября 1730 года, и является правильной!
Правда, после крушения советской власти обозначились новые фокусы. Для перехода на новый стиль в дне рождения Суворова стали прибавлять не 11 дней, как это необходимо для века XVIII, а 13, а потому, к примеру, 250-летие Суворова отмечали не 24 ноября, а 26-го, но в конце концов и здесь всё пришло в норму.
Ныне годовщины рождения Александра Васильевича Суворова отмечаются 24 ноября, а для определения дат юбилейных берётся 1730 год.
Попытки же серьёзно исказить биографию Суворова, причём самые разнообразные, неоднократно делались и раньше, а начались ещё при его жизни.
4 января 1790 года императрица Екатерина Великая писала своему корреспонденту в Германии И.Г. Циммерману:
«Предупреждаю Вас, милостивый государь, что в 123 номере геттингенской газеты напечатана величайшая нелепость, какую только возможно сказать. В ней говорится, что генерал граф Суворов – сын гильдесгеймского мясника. Я не знаю автора этого вымысла, но не подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно дворянская, спокон века русская и живёт в России. Его отец служил при Петре I… Это был человек неподкупной честности, весьма образованный, он говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мёртвых или живых языках. Я питала к нему огромное доверие и никогда не произносила его имя без особого уважения».
Итак, выделим особо: «…не подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно дворянская, спокон века русская и живёт в России».
А вот что писал в ноябре 1811 года выдающийся русский дипломат Семён Романович Воронцов (1744–1832) своему сыну Михаилу Семёновичу Воронцову (1782–1856), в будущем светлейшему князю, генерал-фельдмаршалу и генерал-адъютанту, новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору:
«…один автор делает Суворова по происхождению ливонцем, другой автор, немец, делает его шведом, но имя Суворова доказывает, что он русский по происхождению, а не немец, не ливонец и не швед. Его отец был, так же как маршал Бутурлин, денщиком Петра Великого, прежде чем Ливония была завоевана».
В петровскую пору денщиками именовались особо приближённые к царю, затем императору «физически и умственно хорошо развитые, красивые, рослые, видные, расторопные и смышленые молодые люди». Впоследствии этот чин трансформировался в звание генерал-адъютантское.
Читать дальше