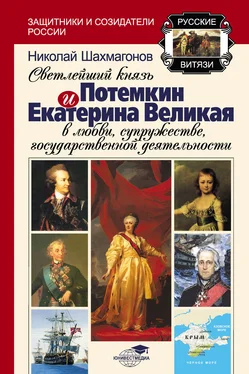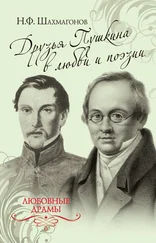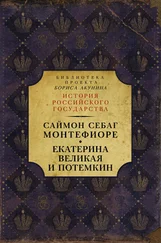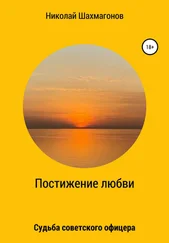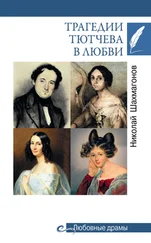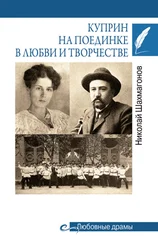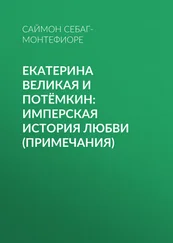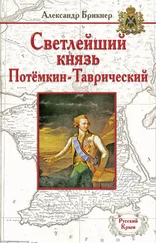Можно понять Потёмкина, который не пожелал оставаться в столько ужасной обстановке и решил начать службу в армии.
Однако, надо заметить, что Потёмкин, хоть и не окончил университет, прекрасно осознавал роль этого учебного заведения, и важность образования. Впрочем, при Императрице Екатерине порядки поменялись, и Государыня высказалась по этому поводу со свойственным ей юмором: «С тех пор как в государственные учреждения стали приходить выпускники университета, я стала понимать поступающие ко мне бумаги».
С прекращением учебы для Потёмкина закончилась и отсрочка от службы в полку. Надо было выбрать дальнейший путь в жизни. Кисловский пытался отговорить племянника от вступления на воинскую стезю, даже отказался снабдить средствами, которых немало требовалось в то время для службы в гвардии. Были некоторые колебания и у самого Григория Александровича. В те годы он коротко сошёлся с протодиаконом греческого монастыря отцом Дорофеем и с архиепископом Крутицким и Можайским Амвросием Зертис-Каменским. От Потёмкина можно было услышать такие заявления: «Хочу непременно быть архиереем или министром». Или: «Начну военную службу, а, коли нет, стану командовать священниками».
Вопросами богословия Потёмкин занимался очень серьезно, хотя в юношеские годы увлечений имел немало, причём самых разнообразных. Ещё в университете он много читал, писал стихи, даже сблизился с Василием Петровичем Петровым, в то время начинающим поэтом, а впоследствии известным лириком и переводчиком стихотворных текстов. Стихи Потёмкина, к сожалению, почти не сохранились. Известно, что Петров оказал определенное влияние на развитие поэтического дара Потёмкина. Поэт учил его языку Гомера и вместе с ним переводил «Илиаду». О способностях Потёмкина отозвался так:
Он без усилья успевает,
Когда парит своим умом,
И жарку душу выражает
Живым и пламенным пером.
Не тяжких праздных слов примесом
Красот нам в слоге он пример:
Когда б он не был Ахиллесом,
То был бы он у нас Гомер.
Спустя много лет Петров пригласил Потёмкина, уже бывшего в ореоле славы, в только что открытую типографию Селивановского, чтобы показать детище, в создании которого принимал активное участие. Когда друзья юности подошли к станкам, Василий Петрович предложил:
– Я примусь за работу, и вы, любезный князь, увидите, что, благодаря ласке хозяина типографии, я кое-как поднаторел в его деле.
Затем поэт быстро набрал четверостишие, посвящённое князю:
Ты воин, ты герой,
Ты любишь муз творенья,
А вот здесь и соперник твой —
Герой печатного изделья.
Протянув листок с набранным текстом, Петров сказал:
– Это образчик моего типографского мастерства и привет за ласковый ваш приход сюда.
– Стыдно же будет и мне, если останусь у друга в долгу, – отвечал Потёмкин. – Изволь, и я попытаюсь. Но чтоб не ударить в грязь лицом, пусть наш хозяин мне укажет, как за что приняться и как что делать. Дело мастера боится, а без учения и аза в глаза не увидишь.
Некоторое время Потёмкин старательно занимался набором, а потом попросил Петрова:
– Я, брат, набрал буквы, как сумел, а ты оттисни сам. Ты, как я видел, дока в этом деле.
Петров быстро управился с печатным станком, сделал оттиск и прочитал экспромт, сочинённый Потёмкиным:
Герой ли я? не утверждаю,
Хвалиться не люблю собой,
Но что я друг всегдашний твой —
Вот это очень твёрдо знаю!
Увлечение юности сохранилось на долгие годы. Потёмкин был признанным мастером эпиграмм и экспромтов. Однажды на обеде у московского писателя Федора Григорьевича Карина он сказал в виде тоста:
– Ты, Карин, —
Милый крин И лилеи Мне милее!
Естественно, что живой и гибкий ум Потёмкина не мог мириться с косностью и невежеством университетских преподавателей. Юношу влекло к общению с наиболее образованными людьми своего времени, которых он нередко встречал в доме дяди. Такие люди на протяжении всей его жизни были самыми желанными его собеседниками. Его племянник Л. Н. Энгельгардт писал: «Поэзия, философия, богословие и языки латинский и греческий были его любимыми предметами; он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось у него навсегда; во время своей силы он держал у себя учёных раввинов, раскольников и всякого звания учёных людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях». Кипучей натуре Потёмкина были свойственны многие крайности, которые нередко являются признаком людей, наделённых дарованиями.
Читать дальше