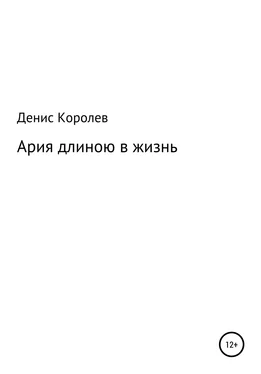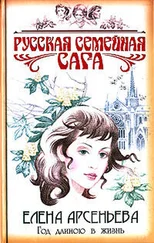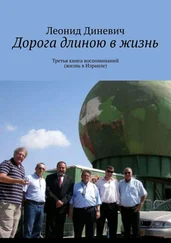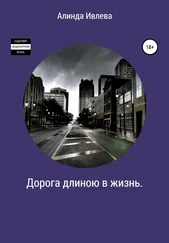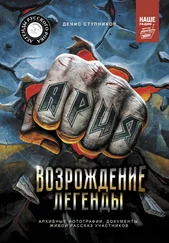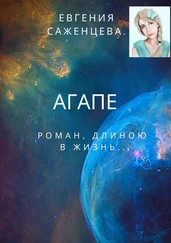Но на этом радость моя не закончилась. Назначили меня и еще одного тенора в класс… Сергея Яковлевича Лемешева. Представляете мои ощущения – я буду учеником самого Лемешева! Однако Гуго Ионатанович предупредил нас, что Сергей Яковлевич сейчас на гастролях. Чтобы не терять времени, он предложил нам ходить на занятия в класс к нему. Прекрасно, лишь бы заниматься. Но занятия начались не сразу. Группу студентов, не только первокурсников, но и из старших курсов, отправили в село в Зарайском районе собирать картошку. Старшее поколение помнит, конечно, как это бывало. В нашей группе были будущие солисты Большого театра Неля Лебедева (Заслуженная артистка РФ), старшекурсник Юрий Мазурок (Народный артист СССР) и я. Были и студенты с других факультетов. Через месяц «ударного труда», мы вернулись и приступили к занятиям. Спустя три месяца Гуго Ионатанович сказал нам двоим, что Сергей Яковлевич просил освободить его от преподавания. Мотивировал он это тем, что часто ездит на гастроли, и что ему жалко своих студентов, которые будут оставаться без педагога. Поэтому Гуго Ионатанович оставил нас в классе у себя. На этом мое образование у Лемешева закончилось. Позднее на пятом курсе я еще встретился с Сергеем Яковлевичем. Он пришел в студию, как художественный руководитель и режиссер. Тогда он занимался «Евгением Онегиным» и дал мне много полезных советов. Однажды, во время перерыва репетиции, он шел со мной по проходу в зале, что-то объясняя, и приобнял меня за плечо. Потом наши девочки из группы говорили: «Какой ты счастливый, тебя сам Лемешев обнимал».
Гуго Ионатанович был удивительный человек. Русский немец. Родился он в немецкой колонии под Пятигорском. Именно поэтому он блестяще владел немецким языком. Гуго Ионатанович был прекрасным музыкантом. Учился он у итальянского профессора Романо Гондольфи. Иногда в классе, ссылаясь на Гондольфи, Гуго Ионатанович высказывал очень веские замечания. В частности передал мне утверждение итальянского мастера, что в Италии в эпоху «bellcanto» петь фальцетом было запрещено. Это считалось не профессионально. Я запомнил этот урок навсегда и никогда не пел фальцетом. Даже в каватине Владимира Игоревича в опере Бородина «Князь Игорь», несмотря на традицию брать последнюю ноту фальцетом, я никогда его не использовал. Да и к образу Владимира Игоревича – молодого человека и смелого воина – фальцет как-то не подходит. На конкурсе в Мюнхене я взял последнюю ноту голосом, а потом сильно сфилировал ее до пиано. Получилось и красиво и убедительно. Гуго Ионатанович получил очень хорошую школу и умел ею делиться со своими студентами. Гондольфи говорил, что нельзя петь «открытым звуком» надо всегда «прикрывать». Мой профессор добивался от нас именно этого. Тогда звук становился особенно красивым, собранным. Гуго Ионатанович очень следил и за высокой вокальной позицией, и говорил, что с высокой позицией должны петь все даже басы, а уж тенора и подавно. Забегая вперед, скажу, что когда я потом преподавал в консерватории, у меня был студент – бас. Как и все басы, он очень настороженно относился к педагогу-тенору. А с нижним регистром у него были большие проблемы. Максимум он с большим трудом мог опуститься до ля бемоль малой октавы. И вот я ему рассказал про высокую позицию. Он с недоверием слушал. Тогда я ему предложил, в виде эксперимента, медленно спеть три ноты: ми, ре, до, первой октавы. Просто траля-ля, но все время следить за высокой позицией. Я попросил его петь совершенно свободно и искусственно не доставать нижние ноты откуда-то из глубины. Как получится, так и получится. Ну, он спел три ноты. Потом еще на пол тона ниже – спел, потом еще, и еще и так дошли до ми бемоля малой октавы. Я уверен, что он мог бы еще спеть на пол тона ниже, но я уже не стал его насиловать. И вот я держу клавишу ми-бемоль и у нас с ним маленький диалог:
– Какая нота?
– Наверное, соль».
– Иди, посмотри, я держу эту клавишу.
Он обошел рояль, посмотрел и от удивления у него глаза расширились. О такой ноте он даже не мечтал. Вот, говорю, что значит высокая позиция.
Очень большое значение мой профессор предавал дикции. Это важно не только для того, чтобы слушатели понимали, о чем ты поешь. Хотя это тоже очень важно. Гуго Ионатанович говорил, что дикция – это фундамент пения. Она снимает часть нагрузки с голосовых связок. Потом, в процессе работы, я убедился в правильности его слов. Действительно, при активной дикции связки устают меньше. Большое внимание Гуго Ионатанович уделял фразировке и передаче смысла текста. Он говорил «Думай, о чем поешь, о смысле текста, а не просто издавай звуки». Певцов даже с очень красивым голосом, но поющих без смысла, через пять минут становится скучно слушать. Таких он называл «звучкодуями». Помню, у нас на курсе была такая певица с великолепным голосом, но с полным отсутствием понимания, о чем она поет. Действительно, ее красивое пение очень быстро надоедало. И еще, Гуго Ионатанович очень большое внимание уделял так называемому процессу впеваниямузыкального материала. Он говорил, что мало произведение выучить, его надо еще хорошо впеть. Именно тогда произведение становится на свое место и по звуковедению и по дыханию. Эта кухня должна быть доведена до автоматизма, чтобы во время пения уже не думать, как дышать и прочее, а думать о выразительности. Партию Ленского я впевал год. Гуго Ионатанович очень бережно относился к новым ученикам, не желая их сразу переделывать. Он говорил, что процесс обучения, а особенно исправления каких-то вокальных огрехов, это процесс эволюционный, и никогда не революционный. Нельзя, дергая дерево за макушку, заставить его тем самым расти быстрее.
Читать дальше