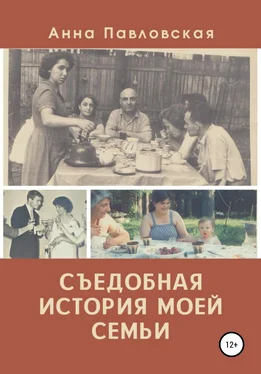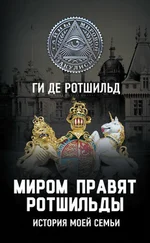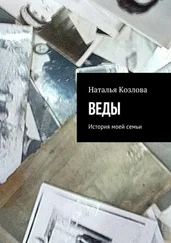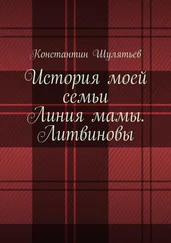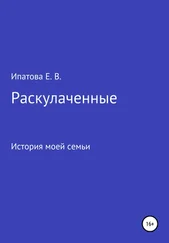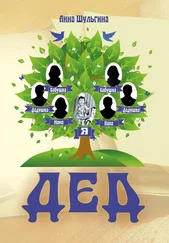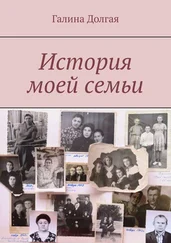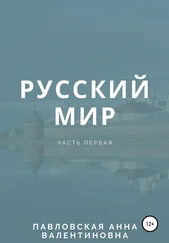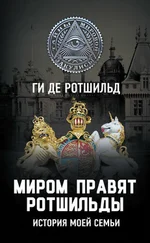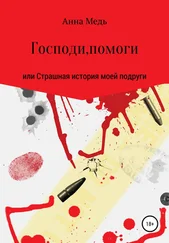Интересный и наглядный пример – сегодняшняя глобализация общества. За последнее столетие множество людей по разным причинам (среди важнейших – экономические кризисы, голод, безработица, революции, войны, разного рода перестройки, кроме того, была и есть просто «охота к перемене мест») поменяли место жительства, оставили родные края, поселились в далеких местах, погрузились в иную культуру. Потомки переселенцев-эмигрантов, оторванные от национальных корней, сменили одежду, образ жизни, мировосприятие. А вот традиции питания часто выдают их происхождение: лобио и чахохбили на вполне парижском столе оказываются бабушкиным влиянием, а соленые огурцы и борщ на лондонском ясно указывают на страну, в которой родилась хозяйка дома.
Важным является, конечно, не только и не столько состав блюд, сколько традиции и ритуалы питания, определяющие, в свою очередь, ритм и уклад жизни. Даже в самой бедной крестьянской семье, где и выбора-то блюд не было никакого, кроме сезонного разнообразия, старались за стол сесть все вместе, хотя бы вечером, после работы. Ели молча, чуть ли не священнодействовали – хозяйка подавала еду, хозяин лично нарезал хлеб, строго следили, чтобы никто не ухватил лишнего куска, чтобы всем досталось поровну. В праздники выставляли на стол все лучшее, потчевали гостей, заботились, чтобы все были довольны, считая это своеобразным делом чести, берегли семейные традиции.
И сегодня в каждой семье – свои традиции, а вместе во всем многообразии они складываются в единую национальную систему.
Одна из причин, побудивших меня написать эту книгу, очень личная. В середине 1990-х годов я выступала на международной конференции в Мюнхене. Это была конференция по межкультурной коммуникации. Удивительно, но нет людей более нетерпимых к своеобразию чужих культур, чем эти самые коммуникаторы. Создается впечатление, что их главная задача – подогнать всех под одну гребенку, как правило, гребенка эта имеет ярко выраженный англосаксонский характер. Мой доклад был посвящен стереотипам восприятия России в мире. В числе прочего я вскользь упомянула о том, что упрощение трактовки советской эпохи, сведение ее исключительно к тоталитаризму и гнету представляется мне однобоким. И что у меня, например, было счастливое советское детство. И что я не знаю, как там с писателями и диссидентами, может, ими и интересовалось КГБ и они ощущали себя угнетенными режимом и несвободными, но мы, простые обыватели, мало чувствовали гнет власти и внимание КГБ; жили своими интересами и радостями, такими же, как у жителей «свободного» мира.
На это немедленно и очень страстно отреагировала польская участница. Она с яростью набросилась на меня, отрицая возможность счастливого детства в условиях советского строя. На ее вопрос, что же было у меня хорошего, я, слегка растерявшись, сказала: «Мама, папа, бабушки и дедушки, дача и деревня…» Не дав мне договорить, она презрительно хмыкнула: «Понятно, у вас была дача, так вы из номенклатуры!»
Долго я потом мысленно дискутировала с этой ученой межкультурной дамой. Рассказывала ей о своем детстве; о среде, в которой выросла; о стране, в которой сформировалась. И о дедушкиной даче – крошечном фанерном домике, который сегодня даже постеснялись бы назвать громким словом «дача», состоявшим из неотапливаемой террасы и двух малюсеньких проходных комнат с печкой. Домике, в котором удивительным образом помещалась большая семья, в котором устраивали чудесные пиры и праздники, который был открыт для всех. Домике, который окружали такие же крошечные домики, в которых жили наши многонациональные соседи – одна украинская, две русских, две еврейских, одна армянская, одна осетинская семья. Вот уж где была межкультурная коммуникация в действии, которую и представить себе не могут ученые специалисты. Когда из-за одного забора начинало пахнуть шашлыками, все соседи, собрав у кого что было, отправлялись в гости, не дожидаясь приглашения, уверенные, что им будут рады. И им были рады: и ели, пили, и общались, и смеялись, и устраивали детские праздники и взрослые гулянки. Да, дедушка мой в то время был небольшим чиновником в конторе, называвшейся Шахтспецстрой. Но это сейчас угольные шахты стали синонимом несметного богатства, а тогда работа на этом государственном предприятии означала, в числе прочего, и трудные для его возраста командировки, например в Норильск, во время одной из которых он и умер. Все, что имел мой «номенклатурный» дедушка, досталось ему, главным образом, из-за его удивительно доброжелательного характера, способности обзаводиться друзьями везде и всюду – а связи в нашей стране всегда были важнее чинов и даже богатства.
Читать дальше