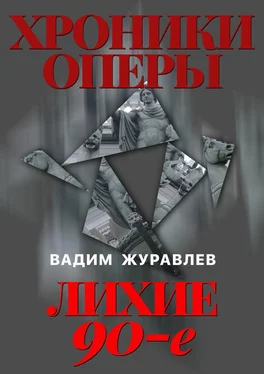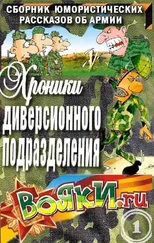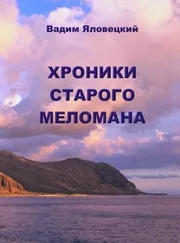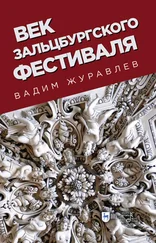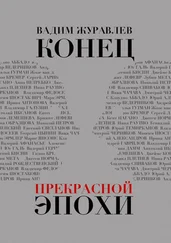В 1993 году Большой выпустил возобновление «Трубадура» Верди и уже упомянутого «Князя Игоря». Про «Трубадура» я написал памфлет. И, кстати, навсегда понял, что журналист должен выражаться однозначно, не допуская никаких разночтений. В этой статье я использовал выражение «с напором экспоната сельскохозяйственной выставки», подразумевая трактор. А артистка прочла нечто из области животноводства. Но по сравнению с «Князем Игорем», которого выпустили в свет в декабре, «Трубадур» был образцовым спектаклем.
Дело в том, что «Князь Игорь» был создан в сотрудничестве с генуэзским театром Carlo Felice, премьера состоялась там, естественно с триумфом. А потом спектакль привезли на родину, и тут обнажились многие его проблемы. Сам тип традиционного реалистического театра, казалось, выдохся именно в этот момент. Люди заходили в кибитки половцев через дверь, а потом вываливались из них через фронтальный разрез. Завершался спектакль свадьбой Кончаковны и Владимира Игоревича. Корпулентных артистов в паричках засовывали в кибитку после «Половецких плясок» для полномасштабного проведения первой брачной ночи, видимо. Все вместе выглядело так, будто спектакль специально хотели сделать еще более глупым и архаичным.
Впрочем, начать надо было про Большой театр с февраля 1993 года. В то время в Малом зале консерватории проходил цикл концертов солистов театра под общим названием «Жемчужные голоса Большого». Уж не знаю, почему это название прельстило организаторов, но я на это написал текст под названием «Театр, в котором умирают голоса». А еще через три недели в рубрике «Карт-бланш» на второй странице газеты (что было очень почетно) вышел мой текст с довольно визионерским названием «Смерть, я не боюсь тебя». В нем, используя цитаты из популярных опер, я рассказывал о том, как Большой театр тратит силы не на производство достойного художественного продукта, а на доказательства того, что их продукт неплох. Чем сейчас многие коллективы, кстати, успешно занимаются.
На следующий день я оказался в редакции – наверное, дежурил. И вдруг меня вызывают в кабинет главного редактора, а он показывает на стоящий на столике телефон правительственной связи. Да, вот, газета была независимая, но как без правительственной связи. Я беру трубку, из которой несется трехэтажный мат и крики вроде «Тебя мертвым на пороге собственного дома найдут!». На том конце так кричали, что я не сразу разобрал: это был Владимир Коконин, генеральный директор Большого театра. Конечно, эта акция устрашения завершилась ничем. Я не перестал писал о театре то, что думал. Театр отказал мне в билетах, и я покупал их у спекулянтов, ночевать у касс мне уже не хотелось. К чести главного редактора газеты, он не перестал меня печатать даже после того, как и его лишили VIP-мест.
Были и такие события в моем 1993 году. Я написал разгромную статью про слабенький спектакль Театра Аллы Сигаловой, в котором эта всегда энергичная дама решила потанцевать под пение Марии Каллас. Ну, кто-то ей сказал, что она похожа на La Divina, – соврал, конечно. Поскольку текст сдавался напечатанным на машинке, его потом набирали на компьютере, он проходил редактуру и корректуру. Но название оперы «Джоконда» Понкьелли, набранное как «Джононда», никому из корректоров в глаза не бросилось. И вот звонит разъяренная худрук театра Аллы Сигаловой, она же прима-балерина этого театра, она же сама Алла Сигалова. И шипит в трубку: «„Джононда“? Да что вы понимаете? Как вы смеете!» Это был мне еще один урок: отныне я сопровождал свои статьи до самого выпуска. И то дело, Валерия Гергиева в те времена любой корректор пытался исправить на Георгиева.
Хочу вспомнить о моих первых шагах на поприще интервью. 31 декабря 1992 года в «Независимой газете» вышло мое интервью с Еленой Образцовой. Брал я его в Петербурге, куда мотался ради Мариинки. Для меня тогда прикосновение к одной из самых любимых певиц было счастьем. Но реальность всегда страшнее ожиданий. Интервью было огромное, заняло половину газетной полосы. Но история с ним не закончилась в Питере. Образцова попросила меня принести ей расшифровку уже в Москве, в ее квартиру на улице Жолтовского. Я, неопытный и молодой, созвонился с ее помощницей и пришел в назначенное время. Образцова взяла напечатанный текст и все, что в нем было интересного, стала зачеркивать. Вставляя на место вычеркнутых строк какие-то общие слова и пустые формулировки. Это было ужасно. Еще более ужасной была сама атмосфера этого мероприятия: меня не покидало ощущение, что меня перепутали с крепостным холопом. Артистка все время убегала куда-то, ведь стригли ее собак. Вместо нее приходил ее муж, маэстро Жюрайтис, и пытался убедить меня написать про «голубое лобби» в мире оперы. Все это было похоже на фарс!
Читать дальше