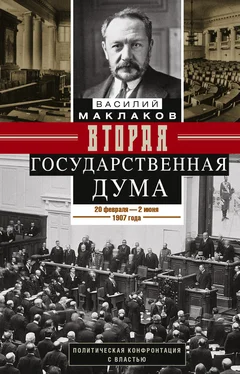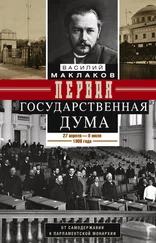Возьмем военное положение. Там, где оно вводилось, несколько категорий дел, специальной 17-й статьей предусмотренных, бывали изъяты из общей подсудности и передавались военным судам для суждения по законам военного времени. Это суровая мера, но с правовым режимом вполне совместимая. В ней нет произвола, так как это – общая мера для всех. Но наше положение об «охране», под которым, якобы временно, а на деле постоянно, жила вся страна, было построено на другом основании. В нем была также 17-я статья (просто совпадение нумерации), которая предоставляла генерал-губернатору право передавать по своему усмотрению на суждение военного суда «отдельные дела о преступлениях, общими уголовными законами предусмотренных». Между этими двумя семнадцатыми статьями идейная пропасть. В одном случае была хотя и жестокая, но общая норма, в другом было разрешение, данное генерал-губернатору, существующий закон нарушать. Вытекающее из этого для генерал-губернатора право по своему произволу назначать, кому он пожелает, смертную казнь по законам военного времени было в миниатюре все старое Самодержавие.
В этом был тот разврат, который всех приучал к беззаконию, заменял закон произволом и этим «воспитывал нравы». Что же в междудумье в этом отношении сделал Столыпин? Он не только не исправил, хотя бы частично, «исключительных положений», но он их в самом «невралгическом пункте» ухудшил. Единственная новелла, введенная им в эту область, была знаменитая «мера» 19 августа 1906 года о «военно-полевых судах».
Она предоставила генерал-губернаторам в тех случаях, «когда совершение преступления является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании», право предавать обвиняемых особому военно-полевому суду с применением наказаний по законам военного времени и т. д.
В этой мере не только сохранен, но усилен тот антигосударственный принцип, на котором покоилось все положение об охране. Все было представлено усмотрению генерал-губернатора. Он может не вмешиваться и предоставить делу идти по общим законам; может отдельное дело передать обычным военным судам; может, наконец, если захочет, отдать дело особому специальному составу суда, из одних строевых офицеров, без участия военных судей и военного прокурора, без всякой проверки и жалобы. И такой приговор должен был исполняться немедленно. Все, что было главной язвой «исключительных положений», этой новеллой было подтверждено и усилено.
Подкладка этой меры теперь обнаружилась. В «Красном архиве» напечатано письмо Государя Столыпину от 12 августа 1906 года [12] Красный архив. Т. V. С. 103.
:
«Непрекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом, но даже сама жизнь людей находится в опасности.
Манифестом 9 июля было объявлено, что никакого своеволия или беззакония допущено не будет, а ослушники закона будут приведены к подчинению царской воле. Теперь настала пора осуществить на деле сказанное в Манифесте.
Посему предписываю Совету министров безотлагательно представить мне: какие меры признает он наиболее целесообразными принять для точного исполнения моей непреклонной воли об искоренении крамолы и водворения порядка.
12 августа 1906 г.
Николай.
Р. S. По-видимому, только исключительный закон, изданный на время, пока спокойствие не будет восстановлено, даст уверенность, что правительство приняло решительные меры, и успокоит всех».
Повеление Государя, шедшее вразрез с тем, что собирался делать Столыпин, не первый и не последний пример той роковой роли, которую играл Государь в его неудаче. Письмо очевидно кем-то подсказано; оно не соответствует слогу Государевых писем. Но это не важно. Столыпин предписание все же исполнил, несмотря на свои личные взгляды и заявления.
Мера 19 августа оказалась единственным изменением, которое Столыпин внес в закон об «исключительных положениях». Оно еще увеличило число смертных казней. В 1906 году люди еще не одичали, как теперь, и казни волновали. Помню впечатление от ежедневных газетных сообщений, что столько-то смертных приговоров там-то «приведено в исполнение». Правда, ко всему можно привыкнуть; сила впечатления даже обратно пропорциональна количеству. Одно мертвое тело на нервы действует больше, чем тысяча трупов на поле сражения. Говорят, Сталин остроумно сказал: «Один труп – это трагедия; а миллионы трупов – это статистика».
Читать дальше