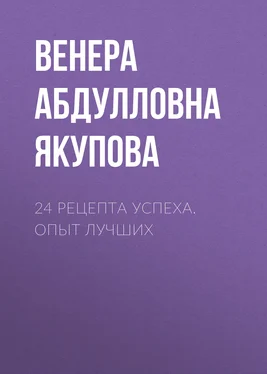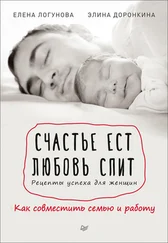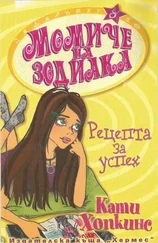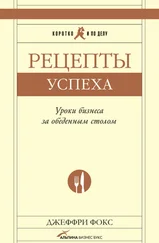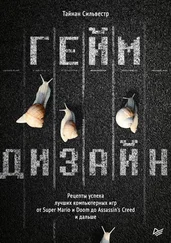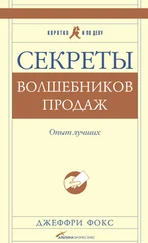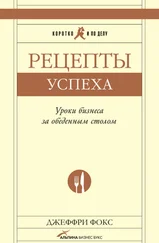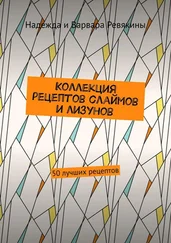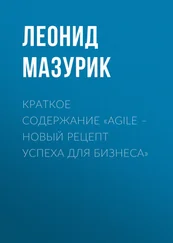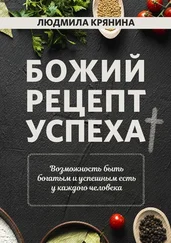– Какими были правила игры?
– Деревенский кузнец делал нам железку с согнутым концом. Каждый игравший выставлял свои кости на общий квадрат. Их надо было сбить издалека той железной палкой. Сбивали по очереди. Шел учет сбитых костяшек. У кого в конце больше всего трофеев, тот и победитель! А еще мы делали очень серьезные каскадные трамплины – сами мастерили короткие лыжи и прыгали. Это необъяснимо, видимо, мальчишки во все времена ищут экстрим…
– А игрушки у вас были?
– Ну откуда? По пыльным улицам деревни гоняли самодельные шары. Ах, какие мы были пыльные, потные… Шар делали из самого крепкого лесного сучка. У каждого был свой, которым по очереди жертвовали для общей игры. Клюшками служили подобранные в лесу кривые палки – кашака. Осенью гоняли шар по первому льду. Бывало, проваливались под лед. Домой сразу не шли – боялись, что отругают. Шли мокрые в натопленную кем-нибудь баню и там сушились.
Шахматы на крыше коровника
– Вы играете в шахматы. Это тоже из детства?
– Почему я люблю играть в шахматы? Мальчишками мы чертили квадратики на картонке, а шахматные фигуры вырезали из дерева. Играли в шахматы, как правило, весной, на солнышке, например, на крыше коровника, в промежутке между подготовкой к экзаменам. Когда мы учились, начиная с седьмого класса каждый год сдавали по 5–9 экзаменов.
– Часто в детстве дрались?
– Драчуном я никогда не был, хотя от старших мне нередко попадало. Деревня Аняково небольшая. Не помню, чтобы у нас были большие драки, мы жили дружно.
– Какие книги повлияли на развитие вашей личности?
– В первую очередь Тукая. Он – гений! В детстве меня захватили его стихи. «Гали и Коза» – ну о чем, казалось бы, этот детский стишок? А оторваться невозможно. Всю жизнь я был увлечен поэзией Тукая. Еще мне нравились стихи Такташа – это наш Маяковский. Я прочитал всю художественную литературу, которая была в нашей районной библиотеке.
Сильное впечатление на меня произвел Виктор Гюго – «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери». Зачитывался Жюлем Верном – «Дети капитана Гранта», татарской классикой – Амирхан Еники, Кави Наджми… Как ни странно, сейчас повторно хочу взяться за Достоевского – в школе такой возможности не было. Понимание масштаба творчества Достоевского пришло позже… В детстве мы много читали пьесы разных драматургов, отсюда и любовь к артистам и постановщикам. Я считаю, что театр бессмертен.
Тайная мечта
– Кто из сверстников был для вас авторитетом?
– В деревне были ребята, которые играли на гармони. Папа очень хотел, чтобы мы с братом тоже научились играть. Но у меня ничего не получалось! К нам заходил соседский мальчик Зуфар, отец которого был гармонистом, у него с ходу получалось все! Музыка у него так и лилась! Я очень этому завидовал, огорчался: «Ну не могу я так! Не дано так не дано!» Позже, став взрослым, никогда и никому не завидовал, кроме гармонистов, втайне мечтал научиться играть на гармони. Ближе к шестидесяти годам меня как будто прорвало. В свободное время взял в руки гармонь – и вдруг что-то получилось. Я заиграл! Это волшебство какое-то, мне до сих пор непонятное.
– Что вы играете?
– Простые мелодии – «Алмагачлары», «Озата барма», «Кубэлэгем», «Жидегэн чишмэ»…
– Хорошо, когда мечта сбывается?
– Это же победа над собой! То, о чем я мечтал втайне, наконец сбылось! У нас в роду были люди с музыкальными способностями. По папиной линии – скрипач! Когда мы переехали в Казань, я хотел сыновей Радика и Айрата обучить музыке. Ничего не вышло: оба сына втайне от меня саботировали это занятие. Мальчики есть мальчики, им на улице хотелось играть. Но вот прошли годы, и оба, к нашему с Сакиной удивлению, достойно спели у меня на юбилее. Видно, в генах Шаймиевых тяга к музыке где-то гнездится.
Девятый ребенок
– Какие обстоятельства сформировали вас?
– То, что вырос в многодетной семье, я девятый ребенок. Убежден, какой дух в семье, такое и воспитание. В многодетной семье учишься и коллективизму, и терпению, и слушаться старших. Здесь нет места эгоизму.
– Говорят, у вашего отца была и плетка для воспитания?
– Она висела на видном месте, но не помню, чтобы отец пускал ее в ход. Папа был горячим человеком, но мама нас здорово защищала. О мелких наших проступках она отцу просто не говорила. Папа был непререкаемым авторитетом. Каждый день в шесть утра мы с братом были обязаны ходить на деревенский колодец за водой, чтобы напоить скот, почистить коровник и двор. А если метель? Все равно надо чистить двор, чтобы папа смог заехать на санях. Он-то в четыре утра уходил на работу. Да, это был нелегкий труд. А ведь еще учиться надо! Делать с вечера уроки при свете керосиновой лампы. К слову сказать, неподготовленным я в школу не ходил. Сам себя наказывал: урок не подготовлю – играть не иду. Вот такой «ненормальный» характер! Сверстники посмеивались надо мной.
Читать дальше