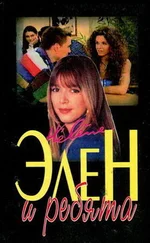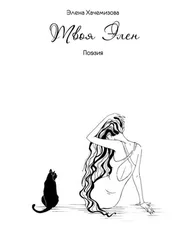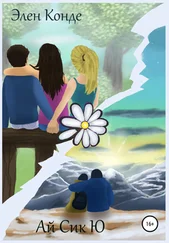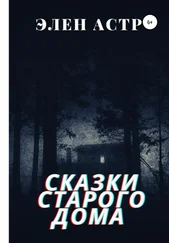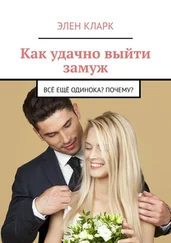В Люксембургском саду мы остановились перед прудиком, где плавали десятки парусных корабликов; мы о чем-то разговаривали, но я помню только завороженное блаженство от солнечных бликов на воде, тихий плеск и ласковые складки волн, упруго изогнувшиеся под ветром маленькие парусники и распростертую надо всем этим трепещущую синеву неба. Вокруг было множество людей — детей и взрослых. Но меня притягивала танцующая, искрящаяся вода. Я не отрывалась от нее, даже когда говорила, она со мной и теперь. Однако, когда Спаркенброк проговорил: «Немцы победят в этой войне», мне захотелось возразить. Я сказала: «Нет!» Но не знала, что еще прибавить. И тут же почувствовала, что это малодушие — я не отстаиваю перед ним свои убеждения из малодушия; тогда я встряхнулась и воскликнула: «Что же с нами будет, если немцы победят?» Он неопределенно взмахнул рукой: «Да ничего не изменится… — Я знала, заранее знала, что он так и скажет. — Будет все то же: солнце, вода…» Такой ответ мне не нравился, тем более что в глубине души я тоже в этот миг ощущала полную ничтожность всех споров перед лицом красоты. Но все же понимала, что уступаю какому-то дурному мороку, предаю себя и что буду потом себя корить за это малодушие. И я заставила себя произнести: «Но любоваться светом и водой они позволят не всем!» Эти слова меня спасли, я не хотела поддаваться трусости.
Ведь я знаю теперь: это малодушие; мы не имеем права думать в этом мире только о поэзии; поэзия — это волшебство, но предаваться ему в высшей степени эгоистично.
Потом он заговорил о корабликах, о деревьях в Обержанвиле, о своих детских играх, и мое неприятное чувство прошло. У выхода он встретил какого-то приятеля, я пошла дальше, потом увидела Жака Вейль-Рейналя и остановилась с ним поболтать. Вскоре Спаркенброк догнал меня, и мы вышли вместе. Он сказал: «Вот странно, стоит мне встретить знакомого, как и вы тут же встречаете своего». А потом он сказал, что не хотел бы повстречать свою жену. Об этом он всегда говорил совершенно непринужденно, поэтому и я попробовала тем же тоном спросить: «Почему? Она рассердится?» Но он сказал, что она ждет ребенка и стала очень раздражительной.
И тут что-то обрушилось на меня, то самое, что всегда грозило замутить ясную атмосферу наших встреч, такую странную, волшебную, — что-то такое, что теперь вдруг заставило меня увидеть все «со стороны», и я поняла: пускай у его жены нет причин для ревности, я все равно не имею права продолжать, потому что это причинило бы ей боль. А если бы я знала, что ей больно, не осталось бы ни высоких мыслей, ни идеальной красоты. Теперь всё.
Мы шли по бульвару Сен-Мишель, и он рассказывал о своих друзьях — они все женаты, у всех уже есть дети. Я сказала: да, мальчики женятся рано. Мы стали говорить на эту тему. И в какой-то момент я сказала: «Жениться нетрудно, трудно другое… найти настоящее счастье», — тут я запнулась, и, пока искала слова, он ответил: «Я никогда в это не верил». Я твердо возразила: «А я пока еще верю и не хочу, чтобы вы разрушали мои иллюзии». И вдруг мне стало одиноко. Он тоже чужой, мы с ним совсем разные. На бульваре мы говорили о наших взглядах на жизнь, и он сказал, что ему интересно все — все без разбора… — «А мне нет, я по натуре не дилетант, я ищу красоту, совершенство, отбираю из множества вещей действительно стоящие. У меня еще сохранилась шкала ценностей, и я не дошла до того, чтобы считать интересным все подряд». Потом мы заговорили о том, что невозможно понять чужую мысль, о том, как передать свою мысль другому. Он довел меня до входа в метро, солнце светило прямо в глаза. Он сказал: «Я завтра приду». Я замялась, почувствовала вдруг, что нам незачем видеться, точнее, у меня отпало желание с ним видеться, и я пробормотала: «Я, может быть, тоже». Он ушел. А я вдруг спохватилась, что у меня нет ни денег, ни билетиков на метро. Оставалось одно — я побежала за ним. Он шел медленно, как-то задумчиво. Я догнала его, объяснила, что случилось. Самой было смешно. Он улыбнулся своей хитренькой улыбкой и достал из кармана билетную книжечку. И все снова стало как прежде.
Но сейчас, вечером, все ушло, и опять ощущается диссонанс. Кажется, единственное, что было сегодня простого, здорового и радостного, так это встреча с Жаном Пино.
Я еще молодая, и это такая несправедливость, что все в моей жизни взбаламучено, я не хочу «наживать опыт», становиться пресыщенной, разочарованной и старой. Как бы от этого спастись?
Долго и о многом разговаривала с Франсуазой Масс, показывала ей свои книги, свой диплом. Иногда подступало отчаяние. Когда она сказала, что, как пишет Жорж [28] Младший брат Жерара Лион-Кана, тоже сражавшийся в Свободных французских войсках и погибший в 1944 г.
, Жерар все больше и больше замыкается в себе, меня это задело за живое, потому что мне и самой это покоя не дает. И надо же ей было мне напомнить, что я больше не имею права свободно собой распоряжаться и все, что я делаю, касается не только меня, а еще и другого, связанного со мной человека! Ведь свобода — это все-таки утешение, даже если страдаешь.
Читать дальше