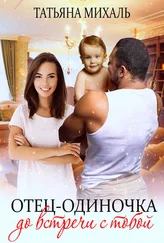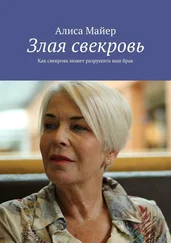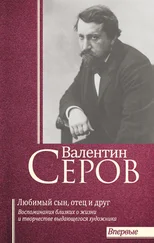Я навещала его в то время в Горелом. Отец уезжал из дома рано утром, объезжал колхозы, поля, МТС и возвращался к ночи. А иной раз его можно было дождаться только на следующий день, он допоздна засиживался где-нибудь у местного начальства и оставался ночевать там, где заставала его темнота. За пять лет пребывания в послевоенной деревне писатель глубоко изучил её проблемы, с близкого расстояния увидел те помехи, которые встают на пути к её процветанию. Да, но если бы одного только знания фактического материала было достаточно для создания художественного произведения!
Написанный на Тамбовщине роман «Крутые горы» впервые был выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1956 году, но не имел такого резонанса, как предыдущие произведения Н. Вирты ни в прессе, ни в читательской аудитории.
Надо сказать, что в дальнейшем Н. Вирта талантливо использовал фактический материал, заложенный в романе «Крутые горы», и на его основе создал одну из своих наиболее удачных пьес «Дали неоглядные». Но об этом я скажу позже, а сейчас нам предстоит поговорить немного о дрязгах.
После смерти Сталина недругам моего отца было самое время с ним расправиться. Ага, мол, как-то теперь будет сталинскому любимчику (или поднадзорному), когда не стало покровителя (или тирана)?! Ату его! И борзописцы не замедлили исполнить заказ.
В «Комсомольской правде» 17 марта 1954 года появился фельетон «За голубым забором» (не буду называть фамилии авторов), насквозь проникнутый духом ненависти и доносительства. Обличительный пафос этого сочинения представляется ныне просто смехотворным. Он заключается в том, что переехавший в деревню писатель ведет образ жизни, отличный от жизни окрестных крестьян. Действительно, жизнь писателя сильно контрастировала с тем, что представляла собой в то время тамбовская деревня. Возможно, надо было вести себя скромнее, не все выставлять напоказ. Однако истинная подоплёка развязанной травли состояла отнюдь не в том, чтобы преподать писателю урок этики, а совершенно в другом. Слишком долго стоял он в стороне от всяких кланов, от интриг и разборок, постоянно сотрясавших стены Союза писателей, умудряясь в то же время сохранять, помимо независимости, еще и завидное благосостояние. «Сигналы» могли поступать как из недр районного тамбовского начальства, если он кому-то там особо насолил, так и от коллег-литераторов, не знаю. Однако трагедия отца в 60-е годы состояла не в том, что за неимением каких-либо политических обвинений недоброжелатели следили за каждым его неверным шагом в частной жизни и спешили сделать его достоянием гласности.
Трагедия отца состояла в другом.
Казалось бы – сверху на него больше никто не давил. Всесильное время разрушило оковы всесильной власти, и теперь он был свободен и как художник, и просто как думающий человек. Он многое мог переосмыслить, вернуться к своим истокам, к деревне, и написать о ней всё, что знал, сказать слово правды. В 50-е годы публикуются первые произведения новой волны, волны хрущевской «оттепели», наступившей после разоблачения культа личности Сталина. В «Новом мире» А. Твардовского печатаются «Районные будни» В. Овечкина, родоначальника «деревенской прозы», оказавшей столь сильное влияние на оздоровление нравственного климата в нашей стране. Появляются «Не ко двору» и «Ухабы» В. Тендрякова – это был вызов обществу, не желавшему до той поры обращать внимание на деревенские проблемы. Вслед за Тендряковым в шестидесятые годы выходят в свет произведения Б. Можаева, В. Белова, В. Распутина. Николай Вирта, несмотря на то, что в 1953 году ему было всего лишь сорок семь лет, так и не обрёл второго дыхания, не написал неожиданного о своих корнях, о земле. Слишком долго гнула его власть, слишком долго существовал он под страхом возмездия за своего отца, и что-то главное в нем надломилось, перегорело. А может быть, сказалось и другое – вынужденное употребление дарованного ему свыше таланта для «легкомысленных сделок с эпохой», как выразился Б. Пастернак? Кто знает…
Но вернемся к роману «Крутые горы» – именно в связи с этим романом Николая Вирту ждал еще один всплеск успеха. С ним произошла история, аналогичная той, которая случилась ровно двадцать лет тому назад, когда к нему обратился Немирович-Данченко и предложил написать пьесу по роману «Одиночество». Тогда была создана и поставлена во МХАТе пьеса «Земля». На этот раз Ю. Завадский предложил отцу сделать инсценировку по роману «Крутые горы» для постановки в Театре им. Моссовета, которым он руководил. В тесном содружестве с театром была написана пьеса «Дали неоглядные» и поставлена к сорокалетнему юбилею Октябрьской революции. Такова была эпоха – самые значительные спектакли обязательно появлялись в какие-то юбилейные дни. Это был великолепный спектакль – замечательный театральный коллектив вдохнул жизнь в роман «Крутые горы», и деревня предстала перед зрителями во всей своей красоте, сложности и драматизме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
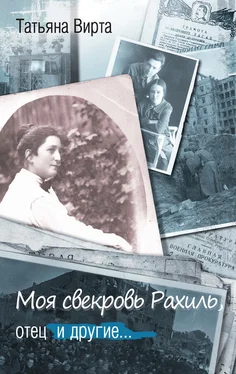
![Екатерина Лесина - Невеста по спецзаказу, или Моя свекровь и другие животные [СИ]](/books/27402/ekaterina-lesina-nevesta-po-speczakazu-ili-moya-sv-thumb.webp)
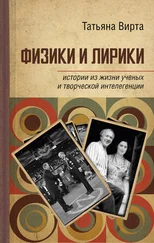

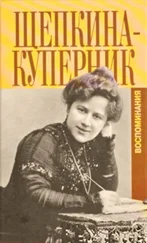
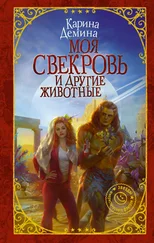
![Карина Демина - Моя свекровь и другие животные [litres с оптимизированной обложкой]](/books/428897/karina-demina-moya-svekrov-i-drugie-zhivotnye-litr-thumb.webp)