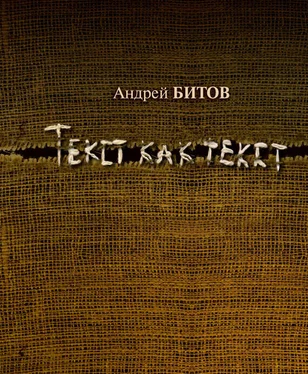– Мы – это ваш брат-близнец?
– Всеволод, да. Нас было вообще-то много: пять братьев и две сестры… Всеволод погиб на войне, в сорок третьем году. Старший брат умер в самый первый год революции, просто от менингита, а младшего брата убили, расстреляли в мурманских лагерях; он там был, когда началась финская война и финны перерезали дорогу железную, эвакуировать лагерь было нельзя, и поэтому очень много народу перестреляли…
– Получается четыре. А пятый?
– Потом был еще брат Андрей. У него как-то жизнь прошла благополучно. Он кончил институт технический и был инженером, и всю жизнь так как-то вот его миновало…
– Всеволод до войны тоже сидел?
– Долгое время я один представительствовал нашу семью в органах. А потом кончилось тем, что Всеволода тоже арестовали, и он пять лет трубил в воркутинских лагерях, кончил накануне войны свой срок и настоял на том, чтобы его взяли все-таки в армию, мобилизовали, потому что лагерников не брали в армию. И очень скоро погиб под Волховом…
– Вы ведь и сами как-то чудесно оттрубили свой третий… третий срок так, что вас выпустили чуть не за день до объявления войны, а на следующий день вышел приказ никого из лагерей не выпускать…
– Ну, я тогда был уже расконвоированный, работал с геологами, тайгу местную хорошо знал, прослышал про указ и подался в леса, меня никто найти не мог, жил охотой…
– Но вас нашли?
– Нашли уже зимой.
– Я хорошо помню это невыносимое место вашей книги. Полярная ночь, глушь, ни электричества, ни телефона, ни дорог – и милиционер в розвальнях прямо к вашему домику прискрипел… Вы знаете, кто настучал?
– Нет. Ума не приложу…
– Вот и меня, когда читал, донимало: кто? а главное – как? Ведь никакой связи. И народ все свой – охотник…
– Там и власти, почитай, советской не было.
– А милиционер, однако, приехал. Вот что это такое?.. Не с этим ли мы имеем нынче дело, когда требуется инициатива, смелость, работоспособность, а предприимчивость у нас по-прежнему одна: зависть и желание укоротить всякого, кто отличается, – мол, не высовывайся, не при поперек народа, чем ты лучше других?
– Народ подменен, конечно, людьми бессовестными и дерзкими. И алчными.
– Это было с вами в сорок втором, а сейчас? Сейчас, когда народ нуждается в самом себе как никогда? Когда вот уже четыре года прошло нашего нового, обнадеживающего времени? Как он быстро отдалился – восемьдесят пятый… вот уже восемьдесят девятый на исходе. Четыре года – это уже история, и они могут стать упущенным временем. Что же теперь-то обеспечивает вашу, мою, нашу веру в себя, в народ, в будущее?
– Безвыходность.
– Кроме безвыходности?
– Безвыходность.
– Безвыходность нас заставляет верить?
– Да, заставляет. Да. Мы развязали языки, но это не значит, что мы развязали свободу деятельности человека, свободу избирать поле работы, которое он хочет. Создать ему другие условия – это ведь мы не торопимся сделать. И наоборот, чувствуется, что хочется будто новые одежки надеть, а сущность оставить ту же самую. Я не верю в плодотворность этих кустарных, маленьких, я бы сказал даже, отчасти лицемерных попыток возродить какую-то там аренду и так далее. Тут может быть только откровенное признание провала марксистских теорий, и надо переворачивать страницу. Надо опять переходить на испытанные хозяйственно-экономические структуры, которые позволяют и прогресс, и уравнивают до какой-то степени расположение людей. Во всяком случае, без этой нищеты и унижения в очередях, которые мы уже, слава Богу, сколько лет терпим. Я думаю, это самое главное. Потому что нельзя больше, надо отказаться от попыток опять еще дальше говорить о каких-то плюсах социализма. Их нет нигде. Да и не было. Что такое социализм – никто даже по-настоящему сказать не может. Я объясняю так, что бедствия Первой мировой войны каким-то образом укрепили положение радикальных партий. И чем, так сказать, революционнее звучали призывы, тем они пользовались большей популярностью. Потому что лишения были велики, испытания невиданные, и люди перестали верить в существующие порядки. На Западе власть крайним партиям все-таки не дали. Там ведь были и Спартаки, восстания… Коммунисты, скажем, в той же Франции едва не подошли к власти, но потом от них отошли, а у нас на эту удочку клюнули. У них народ был просвещеннее, больше понимал, а главное, сильна очень была роль церкви, католической церкви. И безбожье не могло там так легко восторжествовать. У нас же именно из-за того, что народ был еще полуграмотен, что у нас церковь тоже перестала пользоваться уважением и авторитетом, которые она растеряла за последние столетия, и клюнули на эти обещания: земля – ваша, и все другие лозунги…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу