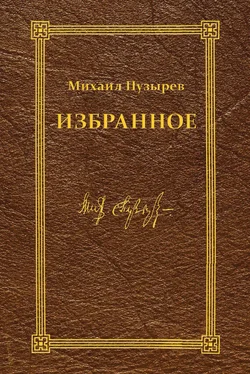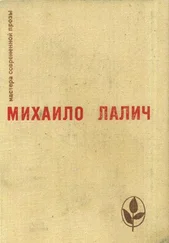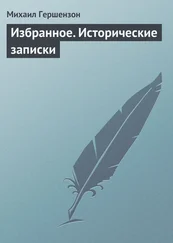Пищу нам приносили из солдатской столовой стрелкового полка. На допросы водили очень редко. Люди возвращались с допросов через пять-шесть дней предельно утомленными и не желавшими говорить о происходящем, тотчас падали на нары и спали тяжело и долго. Проснувшись, неохотно отвечали на вопросы, что и как было на допросах следствия. Эту отчужденность, отказ от обычного человеческого общения было чрезвычайно тяжело переносить.
Хотелось понять происходящее, с кем ты рядом, как себя вести, может быть, получить поддержку. Но этого не было. Были неизвестность и одиночество, раздавившие сознание, личность.
Наверное, чтобы не сойти с ума, один из арестованных, капитан стрелкового полка, начинал рассказывать нам повесть о трех мушкетерах с подробностями, которых могло и не быть в тексте романа. Его раза два в неделю вызывали на допросы, других очень редко – раз в месяц. Позднее он говорил, что его в кабинетах следователей используют в качестве уборщицы помещений. Был ли он камерной «наседкой»? Может, и был, но по принуждению.
Однажды он принес в камеру лезвие безопасной бритвы и не скрыл это от нас. Она нам была совсем не нужна и лежала в щели стены камеры.
Меня на допрос не вызывали. Прошел месяц. Я догадывался, что арест связан с моим вторым именем, и не боялся примерять на себя два года тюрьмы за это, но все было иначе.
В числе следователей особого отдела при первом моем вызове я увидел старшину нашей полковой школы Николая Васильевича Шмелева. За полтора года в школе у меня к нему было устойчивое уважительное отношение с долей личной симпатии.
Оно сохранилось и до сих пор. Думаю, нечто подобное было и в его отношении ко мне, а знали мы друг друга довольно хорошо. Я не знаю, какую роль он сыграл в моем обвинении, но мне было известно, что он был вызван в военный трибунал при пересмотре моего дела в 1956 году в Ленинградском военном округе, где я был реабилитирован.
Мое следственное дело вел капитан Никифоров. Он строил из моей мальчишеской персоны матерого английского шпиона, а потом ограничился обвинением в антисоветской агитации с использованием мной документов на чужое имя с целью скрыть свое порочное, враждебное происхождение.
Ему это было легко сделать. Я с полной откровенностью отвечал на его вопросы о моем отношении к изменениям жизни в стране, о моих политических взглядах. Если теперь это считается банальной истиной, то в то время это каралось по статье 58 п. 10 УК РСФСР. В моем деле нет неправды. Капитан Никифоров не лгал и не выдумывал. Он добросовестно служил строю, системе.
За это я на него не в обиде. Зол на другое: зачем они требовали от нас подписи в протоколах самообвинительного смысла?
Можно же было нас всех осудить и расстрелять без нашей подписи в протоколах. Так нет же. Жестокость, пытки проводились именно ради этой самообвинительной росписи в протоколах, которая по их странной юридической логике делала их работу безупречной с позиции права. Чушь несусветная.
После первых допросов и писания странного протокола, в котором я сам себя обвиняю, я не мог сообразить, как вести себя дальше.
Подписывать протокол требовалось так: внизу каждой страницы собственной рукой написать: «Протокол с моих слов записан правильно» и расписаться. Такой цинизм меня возмутил, я «закусил удила».
В начале тридцать седьмого года чекисты еще оберегали честь мундира и арестантов-военнослужащих не принуждали к подписи с помощью побоев. Они брали подследственных на измор (какое значительное слово в могучем русском языке – «на измор», и как же трудно переводчикам с русского).
На измор. Заставляли стоять по несколько суток кряду, лишали пищи, воды. Если ты уже лежишь на полу – лишали сна, хлопая по столу крепкой деревянной линейкой над головой строптивого. Если ты, обессиленный, пытаешься бунтовать и драться, гуманные следователи тебя свяжут и будут хлопать линейкой по столу, не давая уснуть. И «контрреволюционер», наконец, сдавался и писал, что протокол с его слов записан правильно (если он еще мог писать).
Продолжительность такой процедуры зависела от выносливости «врагов народа», а дежурные с линейкой работали по сменам, при непрерывном режиме.
После следствий я заметил одну закономерность: подследственные для очного судопроизводства побоям не подвергались, а кто уничтожался по решению троек и особых совещаний – уродовались без границ. Ведь не важно, когда умрет: до суда или после. Все равно умрет, а это зачастую решалось еще до ареста.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу