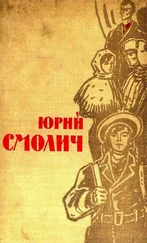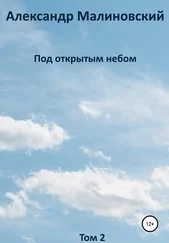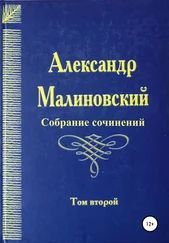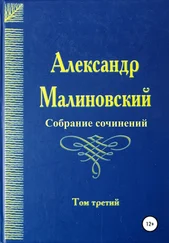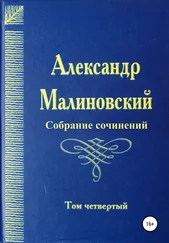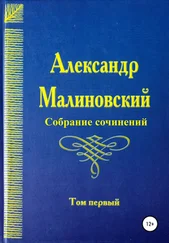Напрасно я пытался отыскать хоть что-то похожее на опись того, что хранилось в музее и что было передано в него после смерти Кузьмы Емельяновича. Этого нет. Более того, меня повергло в уныние, когда я узнал, что громадные залежи переписки основателя музея с земляками, выпускниками школы, организациями районного, областного и союзного масштаба были просто выброшены как ненужные. Человек около тридцати лет вел интенсивную переписку по сбору краеведческих материалов, собирал имена знаменитых земляков. И все пущено по ветру. Выходит, напрасно целые поколения школьных краеведов трудились над сбором материалов. Ребята давно выросли. Другие теперь заботы у Любы Распутиной, Вали Коротковой, Лены Подусовой, Лены Бакановой – былых активистов краеведческого музея. Я представляю их состояние, когда они, придя в школу, вместо музея увидят только то, что от него осталось, и то, что я сейчас держу в руках: тоненькую чиновничью папку с неживыми листочками.
Кого обвинить в содеянном? Кузьма Емельянович, я, Ваш земляк, снимаю шляпу перед Вами за Ваш кропотливый самоотверженный труд. Вы мечтали открыть музей в левой половине дома, где жил Григорий. И не успели этого сделать. А ведь это идеальный вариант.
Может, нам повезет больше, чем Вам.
У этой иконы особая история. В шестидесятых годах я впервые увидел ее фотокопию, сделанную жителем села Утевка, выпускником средней школы В. Игольниковым. Чуть позже увидел и сам оригинал. Мне кажется, душа художника-самоучки более всего проявилась в этой небольшой картине-иконе. Тогда я впервые услышал, как ее называют в народе: «Утевская мадонна».
На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие темные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Все очень обыденное, нет ни тени церковности, но все же она воспринимается как икона.
Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами, они являлись миру, и уже потом эти явления разворачивались рукотворно в искусство, тиражировались и т. д. Эта икона Григорию Журавлеву явилась. Это чувствуется. Уже потом, может, он как художник додумывал детали, но идея святого отношения к женщине-крестьянке – это от природы его.
В этом слиянии канонизированного и простого, осознанно или нет, заложена, как мне показалось, позиция обостренно чувствующей жизнь души. (Надо сказать, что из всех приписываемых кисти Журавлева икон, эта единственная такого рода.)
…Весной 1991 года я со съемочной группой самарского телевидения, окрыленный возможностью наконец-то запечатлеть эту икону и владелицу ее на пленку (мы готовились сделать небольшую телепередачу о Журавлеве), постучал в слабенькую калиточку дома номер восемнадцать по улице Чапаевской. Из дома вышла такая же слабенькая, как калиточка со скрипучим голосом, пожилая женщина – Таисия Ивановна Подлипнова, моя бывшая школьная учительница математики, оказавшаяся дальней родственницей владелицы иконы – Подусовой Александры Михайловны.
Я вновь внутренне воодушевился. Мне везет, уж моя-то учительница даст нам рассмотреть все подробнее и снять на пленку. Но все оказалось сложнее. Нам вежливо ответили на наше приветствие, выслушали на пороге дома и сказали, что надо посоветоваться с другим родственником, который приехал из Самары и гостит сейчас у них. Вышедший во двор пожилой мужчина тут же заявил, что Александра Михайловна больна и в дом он никого не пустит. Вынести икону во двор, чтобы мы могли ее посмотреть, он также отказался. По всему видно было, что здесь последнее слово за ним. Мы сделали несколько попыток выяснить, когда можно будет посмотреть икону, но все было безуспешно.
Помню отчаянную горечь в душе: я привез за сто верст съемочную группу, знаю, что многие утевцы очень хотят посмотреть эту икону, и ничего не могу сделать.
Мы тогда уехали ни с чем.
И вот 23 февраля 1992 года, я вновь у знакомой калитки. Меня манит этот дом, я не могу, приезжая в свое родное село Утевка, не думать о Журавлеве и о его «Мадонне».
Я пришел с тайной надеждой, что одного да еще в праздник меня встретят более приветливо. Не калитку, а дверь открыла незнакомая старушка, пригласила в дом. В доме еще двое обитателей: достаточно молодой человек и пожилой с приветливым лицом мужчина. Через минуту все становится понятным. И я чувствую себя провалившимся в прорубь. Досадно!..
Оказывается, полгода назад Подусова Александра Михайловна умерла, чуть позже умерла Подлипнова Таисия Ивановна. Встретившие меня приветливые люди – новые жильцы дома.
Читать дальше