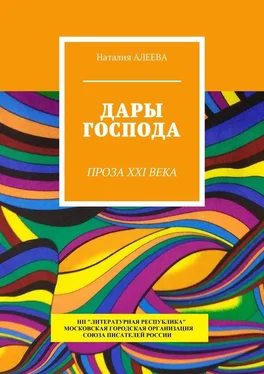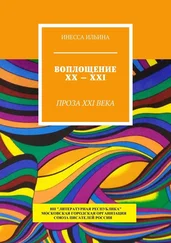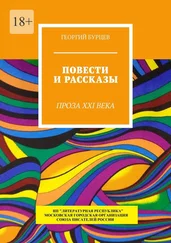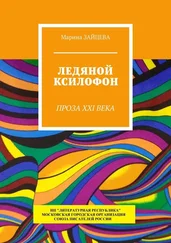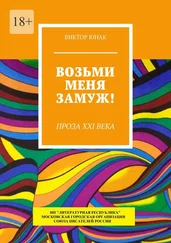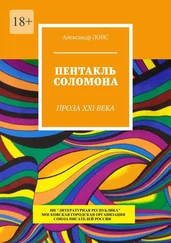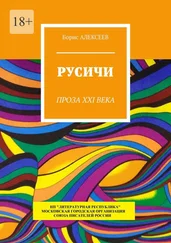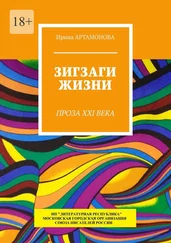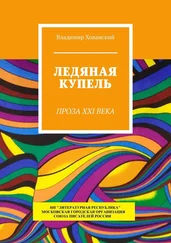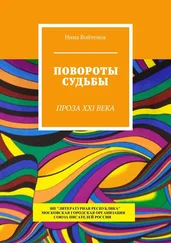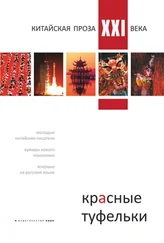Святой Старец Иоанн Крестьянкин наставлял своих слушателей: «Молитесь о детях, показывайте им в жизни следы Промысла Божия, который созидает жизнь. Не о Боге им толкуйте, а о жизни, которая может быть с Богом и без Него».
…И теперь, когда уже прошло много лет с тех пор, всё-таки с горечью ощущаешь, сколько времени прошло «сквозь пальцы», и как часто вместо того, чтобы обретать «умное сердце» мы размениваем свой талант веры в буднях суеты…
Как я догнала свой «Трамвай»
Прошлое в памяти обычно подёргивается благорастворёнными токами, и всегда кажется, что «раньше было лучше, чем сейчас». Но у каждого – своё былое, а моё, как я могу теперь утверждать, было, воистину, счастливым, ибо я жила не в городе, а на даче, встречая новые времена года с прилётами снегирей, скворчиными боями за гнездовья и наблюденьем, как крохотная мухоловка кормит кукушонка, садясь ему на плечо. Я жила в доме, сад которого с двух сторон окаймлял лес. Весной из окон кабинета казалось, что синева неба рухнула сквозь деревья на освободившуюся от снега землю, и я приглашала друзей на подснежники. По ночам под берёзами горел костёр, и было слышно, как растёт сквозь прошлогоднюю листву новая трава. В рукотворном пруду пели соловьями лягушки, и после аквариумной зимы мерцали, не опускаясь в глубину, золотые рыбы. На живом корме к осени они вырастали в «золотых карпов». А сколько ежей, котов и собак становились моими питомцами в те годы!
Зимой на нашей улице по будням обычно светились окна только двух домов: в том, где была я, и соседнего, где жил писатель Анатолий Рыбаков. Ещё в раннем детстве я помнила его молодым, только что издавшим книги «Кортик» и «Бронзовая птица». Тогда он звонко смеялся. И если, уезжая в Москву, задерживался, просил позаботиться о черно-белой дворовой собаке Кузе – моём верном друге. Помню сидящую в кресле старенькую маму Анатолия Наумовича и её воздыхания: «У Толечки такое доброе сердце, вот и собаку подобрал…» Позже писатель Рыбаков уже редко смеялся и совсем не любил собак. Но окна кабинета, выходящие на заасфальтированную дорожку, всегда окаймляли его силуэт за письменным столом, над которым провозглашалось: «ЧТОБЫ НАПИСАТЬ, НАДО ПИСАТЬ!» И он работал, казалось, всегда.
Благо, когда ты дружишь с одиночеством и тишиной, когда можешь встречать рассветы среди природы и зримо ощутить, что Земля живая, и у всего сущего на ней есть свой язык и голос, в суете Истина сокрыта, и к тому времени, когда человек обычно просыпается, лик Природы уже затемнён. Может быть, в том, и заключён сокровенный смысл пословицы: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт». И эту книгу Правды я постепенно читала, сначала по складам, а потом только такой мир и был для меня настоящим.
Но подобный стиль жизни родственникам виделся иначе. Моё отшельничество их задевало, и спектр убеждений простирался от печального «ты губишь себя», до гротескного «только в коллективе можно стать человеком». Воспитанная в послушании старшим, я поддалась упрёкам, и случилось так, что в это время меня навестила моя подруга Лола. Я ей сказала: «Всё. Я прижата к стене – отступать некуда. Мне нужна работа в присутственном месте». На что она – гений дружбы ответила: «Хорошо. Я подумаю». И буквально через день позвонила: «Открывается детский журнал „Трамвай“. Я переговорила с главным редактором. Послезавтра он ждёт тебя на улице Чехова. Итак: послезавтра в четыре часа». Так я оказалась в Москве, где и догнала свой «Трамвай»…
Самый большой комплекс у человека – это ощущение отсутствия каких-либо комплексов. Такого недуга, слава Богу, у меня не было. И когда художник издания поведала мне своё впечатление от встречи: «вошла такая уверенная в себе женщина», я рассмеялась, ибо, переступая порог редакции, долго ещё словно шагала в открытое окно: вокруг всегда были люди, с которыми надо было контактировать и дружески общаться…
Теперь-то я знаю, что тот сюжет моей жизни был щадящим: в редакции никого не угнетали ни подозреньями, ни чуждым пристрастием. Более того, каждому дана была фора открыть читателю то, что сам бы хотел прочитать в детстве, ведь начались девяностые годы (теперь уже прошлого столетия)!..
Трудно представить, что до этих лет духовная жизнь в нашей стране приравнивалась к антигосударственной деятельности и каралась уголовным преследованием. Христианскую книгу в те годы нельзя было ни раскрыть в общественном транспорте («откуда у вас подобная литература?»), ни дать кому-то почитать. А если со случайным собеседником и возникала речь на «божественную» тему, то в глазах визави быстро появлялось сочувствие, какое обычно сопровождает разговор с тревожно больным.
Читать дальше