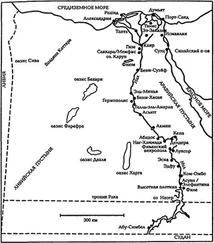Когда на стол подавала не сообщница мальчика, бывало, что он просто не мог глотать. Он отказывался, упрямился. Тогда его в наказание закрывали у него в комнате. Дверь не запирали, но он не имел права выйти. Шотландская гувернантка заходила время от времени, чтобы узнать, не одумался ли он:
– How are things? Ну что?
Ребенок не сдавался:
– Ничего! Я остаюсь.
Видимо, после смерти матери упрямство еще усугубилось. Мамину болезнь он помнит смутно. Однажды она не вышла к завтраку. С тех пор он каждый день заходил к ней в комнату с гувернанткой. «Как в кино, где показывают, как мама лежит в постели. Она меня обнимала, говорила словечко-другое. Меня тревожило, что она лежит неподвижно. Я пугался затхлой атмосферы, опущенных штор, приглушенных звуков, запаха лекарств. При маме почти все время сидела медсестра в белом халате. Когда у дверей звонил врач, кто-нибудь со всех ног бежал открывать. Врачей было несколько. Все они были элегантные господа – черные галстуки, крахмальные воротнички, пенсне на шнурке; говорили они веско, а все, даже гувернантка, почтительно слушали. Осмотрев больную, они беседовали по-польски с отцом».
Однажды утром Жака не повели к маме. Несколько дней спустя ему сказали, что она уехала. Никто так и не сказал ему никогда, что она умерла. Он не помнит ее похорон. Чуть погодя прислуга попросила его снять курточку. Надо было прикрепить к ней траурный креп. Он уже видел, как знакомые носили креп, когда кто-нибудь в семье умирал. Он догадывался, что это значит. В глубине души он понимал, что произошло, понял в ту самую минуту, когда ему сказали, что мать уехала. Но вопросов не задавал.
По сравнению с другими он был трудный ребенок. Сам Жак говорит – «злой», слово «бунтарь» он отвергает. «Что значит бунтарь? В газетах часто пишут о детях-бунтарях. Восстать против Сталина – это я понимаю, дело того стоит. Но бунтовать, когда это тебе ничем не грозит? Это просто попытка привлечь к себе внимание».
После смерти матери семья переехала в провинцию, Марсин Х. был назначен префектом. Жака впервые посылают в школу, в общедоступную школу второй ступени. Чтобы записать мальчика в польский лицей, пришлось преодолевать кое-какие бюрократические трудности: у Жака не было документа об образовании первой ступени, но проблемы быстро разрешились благодаря тому, что директор лицея оказался добрым знакомым отца. В лицее мальчик получал плохие отметки по всем предметам, кроме рисования. Отец сердился, следовала порка, его пороли серым хлыстиком, висевшим в прихожей; с этим самым хлыстиком отец занимался верховой ездой. «Он порол меня без садизма. Приказывал снять штаны. Держа в руке мой дневник, спрашивал:
– Имеет ли право польский школьник получать плохие отметки по польскому языку?
Подумав, я отвечал:
– Нет.
И на меня обрушивался хлыст.
– Имеет ли право француз получать плохие отметки по французскому языку?
– Нет.
– Имеет ли право католик получать плохие отметки по катехизису?
И так далее…
– Можно ли получать плохие отметки по гимнастике?
Не считая рисования, с которым я всегда хорошо справлялся, приходилось на каждый вопрос отвечать “нет”. Как с марксизмом-ленинизмом… или с католицизмом. Всё было известно заранее, и отвечать можно было только “да” или “нет”».
Жак не отрицает, что насмехался над произношением учительницы французского, дамы, выучившей язык Мольера в Польше, что не признавал никаких авторитетов, а особенно авторитета отца, и что из всех детей заслуженные подзатыльники доставались только ему. «Летом в поместье у нас была компания – брат, сестра, кузены, и со всеми детьми обращались одинаково. Бабушка, мать отца, давала мне оплеухи тыльной стороной ладони. Помню безымянный палец ее правой руки, изуродованной артритом. И оплеухи, и хлыстик, всё это предназначалось мне одному – ясно же, что у меня был мерзкий характер и что я не такой, как все дети».
А эльзасская бабушка, которая приехала к ним в Польшу, судя по всему, нисколько не пыталась утешить мальчика после смерти его мамы, своей дочери. Худая, энергичная, лицо в красных прожилках, седые волосы, очки в стальной оправе. Жак помнит, что она была очень строгая и носила на поясе связку ключей от всех запертых шкафов и чуланов. Она вела дом и железной рукой управляла слугами, которые ее боялись. По-польски она не говорила, так что ей трудно было с ними объясниться. «Она умела произносить их имена, а на всё остальное указывала пальцем».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу