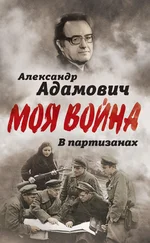Мы уже писали о том, как повлиял Достоевский на классическую белорусскую прозу — на Кузьму Чорного. Влияние это (наряду с толстовским) на белорусскую литературу продолжается — и в творчестве В. Быкова также [5].
Влияние Толстого ("сдвинутого": диалектика души первого периода и проповедь, громкий приговор — последнего) на Быкова легко заметить во всех его повестях.
Достоевского воздействие становится определеннее, глубже как раз в последних произведениях В. Быкова, особенно в "Сотникове".
Но влияние это — через весь пласт современной гуманистической литературы, в которой Достоевский так непосредственно (как наш современник) присутствует.
"Стрессовая" ситуация, ситуация выбора, философская проблема "свободы воли" — все это предлагается современной литературе как важнейшая тема, проблема, заостренная самой действительностью, временем. Но осознана эта тема, проблема как литературная, художественная всей мировой литературой под сильнейшим воздействием гения Достоевского.
"Стрессовая" ситуация, предельно кризисная: когда человеку в себе самом (и нигде больше) приходится искать и находить силу противостоять жесточайшим обстоятельствам,— в основе всех повестей В. Быкова. Литература этого типа обычно укрупняет человеческие страсти, хорошие и дурные качества людей, сами кризисные обстоятельства раскрывают, обнаруживают все в человеке подчеркнуто, крупно.
Эта литература "по-достоевски" проецирует человеческие чувства, мысли, поступки на самое "природу человека " и как бы на его будущее. Она обязательно с футурологической окраской: литература-предупреждение, литература-сигнал.
С обычной и для его повестей интонацией надежды и горечи пишет В. Быков в цитировавшемся выше письме-анкете: "Ален Рене писал некогда, что "фильм должен звучать как своего рода сигнал тревоги, который помогает людям трезво взглянуть на окружающую их жизнь", и это в не меньшей степени относится и к литературе. Отсюда и роль писателя в этой жизни — строителя и звонаря. Будем звонить, а вдруг кто и услышит".
"Притчевое" начало в повестях В. Быкова присутствует и проявляется своеобразно. До самого последнего времени оно было как бы даже не вполне осознаваемым качеством или приемом. И "Журавлиный крик", и "Третья ракета", и "Измена" — вроде бы "обычные" повести, но с таким максималистским моральным зарядом, что сам сюжет, характеры начинают выстраиваться по "силовым линиям" этого заряда. Отделить, выделить "притчу" из потока самой жизни у Быкова — не легко. Лишь в "Обелиске" "притча" заявляет о себе открыто, как сознательное стилеобразующее начало. В таком направлении В. Быков развивался уже в своих партизанских повестях, но ни в "Круглянском мосте", ни в "Сотникове" такого высвобождения идеи, мысли, спора из-под реалий самой действительности у Быкова не замечалось.
Как будет развиваться талант В. Быкова дальше — в направлении "притчи", или же по пути большего документализма, или в каком-то совсем неожиданном направлении — покажет время. Не будем увлекаться подсказками.
Плодотворнее, пожалуй, будет изучить само движение, сам путь художника к сегодняшним успехам и промахам. Последние вещи Быкова, "Сотников" во всяком случае, представляются нам выходом В. Быкова к повести более философской и более психологической. Это снова "виток", но на другом, на новом уровне.
Становление В. Быкова как художника проходило, конечно же, по многим линиям. Но пока выделим одну из самых важных, как нам кажется.
Проблема выбора в условиях крайней, пограничной, кризисной ситуации в большинстве произведений В. Быкова ставится так, решается так, что судьей самому себе человек не является. Он судит других или другие — его, потому что "моральная система" каждого замкнута наглухо; если честный — так честный, а подлец — так уж до конца подлец; и на практике и даже (как Блищинский) "в теории".
И судят они, разные, друг друга и делом и словом, а автор открыто — против авсеевых ("Журавлиный крик"), задорожных ("Третья ракета"), блищинских ("Измена"), черновых и петуховых ("Западня"), бритвиных ("Круглянский мост").
В ситуациях, когда фашисты, когда смерть навалилась, эти трусы, эгоисты, хитрецы-ловкачи, бессердечные карьеристы деловито, обдуманно перекладывают свою часть ноши на других и тем самым губят их, предают их и само дело.
При этом уже в первой своей повести "Журавлиный крик" (и в других — через воспоминания героев, отступления) В. Быков стремится объяснить поведение человека всей его жизнью, его (и не только его) прошлым. (Например, как подтолкнула Пшеничного к мысли о сдаче в плен вся его нелегкая жизнь сына "врага", и хоть нет ему авторского прощения за такой сознательно сделанный шаг, но задумываться читателя над обстоятельствами и оценить их автор понуждает).
Читать дальше
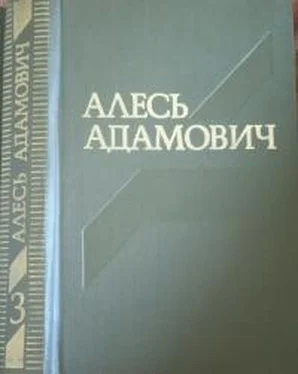
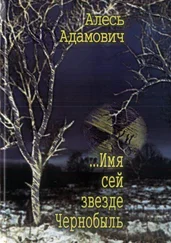
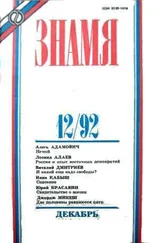
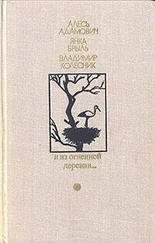

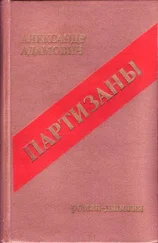
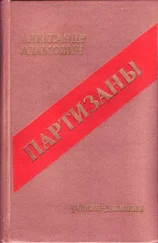

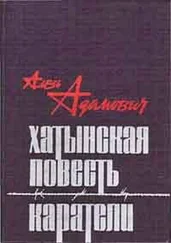
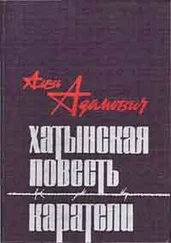
![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)