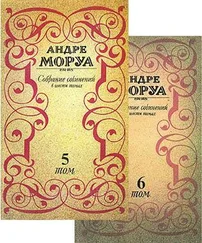Письмо, которое написал ему мистер Боуринг, содержало в себе обычные общие места о «классической земле свободы, колыбели искусств и гения, обители богов, рае поэтов и прочих превосходных вещах». Это был тон, которого Байрон не выносил в прозе. «Энтузиазм!» — говорил он с отвращением. Он ответил рапортом о положении греков, достойным хорошего начальника штаба: «Материальные нужды греков как будто прежде всего таковы — парк легкой артиллерии с частями горной службы, во-вторых — пушечный порох, в-третьих — оборудование для госпиталей…» На четырех страницах, полных фактического материала, он отмечал нужды, наиболее удобные способы пересылки, адреса полезных корреспондентов. Весь здравый смысл Китти Гордон, оценивающей расходы Ньюстеда. Это составляло пикантный контраст с пустым красноречием комитета.
Был ли он, как сам думал вопреки мнению друзей, человеком действия? Истина была, конечно, сложнее. Весьма способный к действию, ибо он в одно и то же время обладал и храбростью, и чувством реального, и точностью, Байрон был приговорен к мечтаниям благодаря своей нерешительности. Ему хотелось быть сразу и защитником народа и большим сеньором-вольнодумцем, мужем и Дон Жуаном, вольтерьянцем и пуританином. Он боролся с английским обществом и хотел его привилегий. Ни консерватор, ни радикал, он был в английской политике тем зверем, который был несчастнее всех других, ибо он был наиболее противоречивым — вигом. Ему всегда не хватало единства мысли и действия, которое так необходимо для больших замыслов.
Но в этой греческой истории все было просто. Его родовые предрассудки не мешали ему желать освобождения чужого народа. Наоборот, Байрон чувствовал, что в силу темных и глубоких причин, классических воспоминаний, героических легенд он был бы поддержан английским общественным мнением в этой роли. И поэтому его успокоенный разум работал во всю свою мощь; ясность, осторожность давали свой результат и делали из него достойного вождя.
* * *
Лето шло, и его старый недруг, судьба, был к нему милостивей, чем обычно. Граф Гамба был возвращен из изгнания, ему было разрешено вернуться в Равенну, если он приедет с дочерью. Папа и граф Гвиччиоли желали этого возвращения. Муж готов был простить на резонном условии, как говорил Байрон, всегда очень справедливый по отношению к мужьям своих любовниц, — «не иметь его, Байрона, в качестве квартиранта». Брат, Пьетро Гамба, которого Байрон все больше любил за его храбрость, жаждал сопровождать. Отец, брат, муж, любовник, все на свете (как когда-то было с Каролиной Лэм), все в один голос советовали госпоже Гвиччиоли примириться с супругом. Женская страсть снова приводила всех к единодушию. Но Тереза, опираясь на чувство, крепко держалась, как говорил Байрон, против воли доброй половины Романьи с папой во главе, и это — добавлял он с ужасом — после четырех лет связи.
Если он хочет ехать в Грецию, говорила она, пусть едет, она поедет с ним, она уж показала, что может страдать за свободу. «Разумеется, это дикая идея, — говорил Байрон, — потому что в таком случае надо все оставить, только бы не подвергать её опасности. С другой стороны, если она закатит сцену, у нас вырастет из этого еще история о дурном обращении, и разрыве, и о леди Каролинизации, и о леди Байронизации, и о Гленарвонизации, и все это поедет против меня. Не было еще на свете человека, который столько бы уступал женщинам, и все, что я на этом заработал, — это репутация женского тирана. В конце концов я сделаю, что смогу, и у меня есть надежды… Если я покидаю одну женщину ради другой, то у неё есть хоть некоторое основание жаловаться, но если человек стремится уехать на защиту правого дела, чтобы исполнить великий долг, то, право, этот эгоизм заходит немножко далеко».
Наконец в начале июня все как будто уладилось. Обливающуюся слезами графиню Гвиччиоли увез отец. Судьба Хентов была устроена, Байрон оплатил их путешествие до Флоренции. На будущее он отдавал Хенту свой пай в «Либерале» и свои авторские права на произведения, напечатанные в этом журнале. Блэкьер из Греции призывал Байрона. Пора было поторопиться с отъездом. Молодому Гамба было поручено зафрахтовать судно. Он был очень мил, этот юный Гамба, но у него был, как говорили итальянцы, «дурной глаз». «Он принимался за каждое дело серьезно и добросовестно, составлял на все тщательные, точные записи, и каждая новая страница этих неудобочитаемых заметок начиналась по манере Болонского университета словом Considerando [72] Принимая во внимание (лат.).
. А потом все шло черт знает как».
Читать дальше