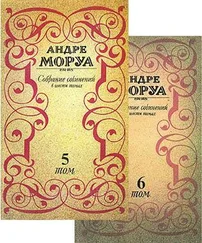Леди Блессингтон часто слушала, как он анализировал чувства других и даже свои, подобно Ларошфуко, но еще злее, всюду усматривая расчетливость и ложь. Казалось, ему доставляло удовольствие выставлять в смешном виде романтические чувства, а минуту спустя обнаруживал эти чувства с такой силой, что слезы навертывались у него на глаза. Она поняла, что он пришел к насмешкам, чтобы излечиться от этих чувств, заметила, что если он читал патетические стихи, то всегда с насмешливым видом и комическим пафосом — это была его защита против эмоции. Он отказывался признавать высокие стороны в своем собственном характере и с удовольствием распространялся о своих недостатках.
В религии она находила его не то что неверующим, но скептиком и, во всяком случае, деистом. «Прекрасный день, лунный свет, все великие зрелища природы, — говорил он, — пробуждают глубокие религиозные чувства во всех возвышенных умах». Но был гораздо более суеверным, чем религиозным, и, казалось, обижался, когда эту слабость не разделяли. Он очень серьезно рассказал леди Блессингтон, что призрак Шелли явился одной женщине в саду. По-прежнему он боялся пятницы. Приходил в ужас от рассыпанной соли, разбитого стакана.
И все-таки чертой, поразившей её больше всех после врожденной доброты, был его здравый смысл. Это был антиромантический, антииндивидуалистический здравый смысл, который необыкновенно поражал в этом самом необщественном (как о нем говорили) из всех живых существ. Редко человек рассуждал о браке с такой мудростью. «Если люди, — говорил он, — так любят друг друга, что не могут жить в разлуке, то брак есть единственная форма связи, которая может обещать им счастье… Я говорю даже не о морали, не о религии, хотя обычно трудности еще десятикратно увеличиваются благодаря их влиянию, но даже если представить себе людей, которые лишены того и другого, то и для них незакрепленная супружеством связь должна повести к несчастью, ежели они обладают некоторой тонкостью ума и той благородной гордостью, которая её сопровождает. Унижения и обиды, которым подвергается женщина в подобном положении, не могут не оказать существенного влияния на её характер, что лишает того очарования, которым она побеждала; это делает её подозрительной и обидчивой… Она становится вдвойне ревнивой по отношению к тому, от кого зависит… и ему приходится подчиняться рабству гораздо более суровому, чем рабство брака, но без его респектабельности».
Это был, конечно, портрет Терезы Гвиччиоли, которая становилась все более и более ревнивой и ревновала даже к леди Блессингтон. Но могущество его наблюдательности особенно проявлялось на нем самом. «Я часто возвращаюсь в мыслях к дням детства и всегда удивляюсь остроте моих чувств в то время. Моя бедная мать, а потом школьные товарищи своими насмешками внушили мне, что я должен считать свое увечье большим несчастьем, и я никогда не мог победить этого чувства. Нужно обладать большой врожденной добротой, чтобы победить разъедающую горечь, которую телесный недостаток внедряет в рассудок и которая настраивает вас против всех на свете».
Он был из тех людей, которые никогда не могут утешиться, потеряв юношеские иллюзии. Он говорил, что ошибочно думать, будто с возрастом исцеляются от страстей. Страс'щ только меняются с возрастом: любовь заменяется скупостью, а доверчивость — подозрительностью. «Вот, — говорил он, — что дают нам возраст и опыт… Что до меня, то я предпочитаю юность, лихорадочный жар рассудка зрелости, когда рассудок в параличе. Я вспоминаю время моей юности, когда сердце было полно до краев добрыми чувствами ко всем, кто хоть немного, казалось, любил меня, а теперь, в тридцать шесть лет, — а ведь это еще не старость — мне с трудом удается, помешивая потухающие угли того же сердца, разбудить хотя бы легкий пламень, чтобы согреть мои обледеневшие чувства».
Как должен был трогать эту молодую женщину и нравиться ей этот школьник тридцати пяти лет, неисправимый сентименталист, тщетно стремившийся сделаться циником! «Бедный Байрон», — говорил он когда-то Аннабелле тоном ребенка. «Бедный Байрон», — говорила в свой черед леди Блессингтон, — бедный Байрон, такой добросовестный и такой слабый, столько добродетелей и так оклеветан, бедный Байрон, «потому что со своим гением, со своим состоянием он — бедняк».
За эти два месяца, апрель и май 1823 года, отношения между Байроном и Блессингтонами становились все более близкими. Граф д’Орсей написал портрет Байрона и Пьетро Гамба. Разговор с леди Блессингтон был для Байрона отдыхом от трескотни его возлюбленной. Он был очень грустен, когда его друзья должны были уезжать. В последний раз принес всем троим по подарку на память. Слезы навертывались на глаза. Он вытер их и обронил какое-то саркастическое замечание по поводу собственного волнения.
Читать дальше