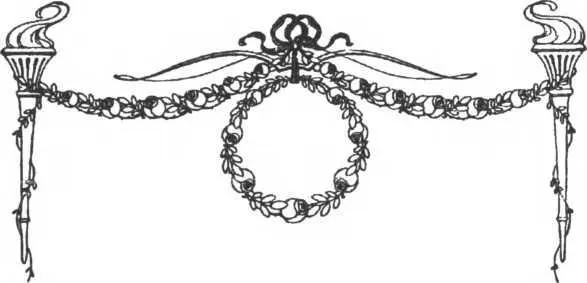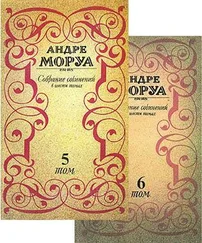ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
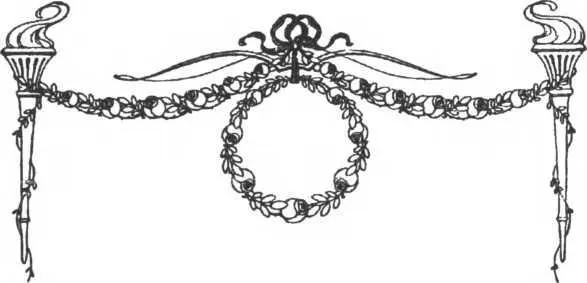
Жизнь в своем течении — это пропасть потерянного времени; ничто не может быть восстановлено или истинно обретено иначе, как в форме вечности или, что то же, в форме искусства.
Сантаяна
XXVI
ШЕСТВИЕ СЕРДЦА, ИСТЕКАЮЩЕГО КРОВЬЮ
И вот опять я на волнах!
Еще раз, Играет подо мной волна, как конь,
Хозяина узнавший…
Уже скорбь изгнания обретала нового Чайльд Гарольда. Этот удар, этот стыд, эта накипь ненависти, осужденная Августа, вся Англия, настроенная враждебно, — он слишком много думал об этой драме, думал до тех пор, пока мозг его не превратился в один сплошной «смерч безумия и пламени». Он жаждал укрыться в уединенном убежище, но в уединении, населенном духами; творить и «жить, творя более живую жизнь». Что такое был он, Джордж Гордон Байрон, в апреле 1816 года? Ничто. Нежный и злой, грустный и веселый, рассудительный, как Вольтер, и сумасшедший, как ветер…
Кто я? — Ничто. Но ты не такова,
Мысль потаенная моя…
Чтобы снова стать Байроном, надо было снова превратиться в Гарольда; странствование начнет третью песнь.
Он сам теперь от света удалился.
Надежды нет, но все ж не так темно.
Он знает, что он попусту родился,
Что до могилы все предрешено,
И это знанье горечи дает улыбку…
И в то время, как в глубине поэтического горнила волновались темные мысли, перемешиваемые незаметным тружеником, искавшим для них форму, высокомерный и веселый английский джентльмен развлекался с доктором Полли-Долли приключениями путешествия. Этот новый Байрон на первом же этапе путешествия (Остенде) стал, как некогда его отец-капитан в Валенсии, возлюбленным служанки в гостинице. Полидори, завороженный пятьюстами фунтами Мер-рея, начал свой дневник в Бельгии: «Антверпен. Пошли в кафе и видели, как все играли в домино, читал «Таймс» от 23 апреля… Женщины здесь покрасивее, у каждого источника мадонны… Ван Дейк, на мой взгляд, куда лучше Рубенса. Брюссель. Единственные красивые женщины в Брюсселе — англичанки. Непристойности, выставленные напоказ на памятниках; фонтаны, изображающие, как людей рвет потоками воды; а то и похуже…» Байрон, которого всегда трогали больше переживания прошлого, чем то, что происходило перед ним, не захотел видеть ничего, кроме Ватерлоо. Там разрушилась его маленькая кумирня. В Брюсселе накануне сражения спали иные из его друзей, молодые, веселые, которым назавтра суждено было умереть; здесь невиннейшая леди Фрэнсис во время кровавого бдения строила глазки Веллингтону. «Шум праздника нарушал тишину ночи. Потом уже пушки…»
Они наняли коляску, чтобы ехать в Ватерлоо. Она увязла в песке, и «проклятое колесо окончательно отказалось вертеться, как ему полагается». Байрон должен был ковылять по полю битвы под руку с доктором, искавшим кости. Фермер продал Байрону казацкую лошадь, на которой он и продолжал свою прогулку. Росли цветы, поле уже было вспахано. «Если бы на каждом шагу не встречались настойчивые и надоедливые ребята, предлагавшие солдатские пуговицы, нельзя было бы и заметить никаких следов войны». Байрон и Полидори вырезали свои имена в часовне в Гугумонте. Байрон описал сражение своему спутнику, восхваляя мужество французов. Потом отошел и погрузился в размышления. Вот в этом банальном окружении в один день закатилась прекраснейшая из человеческих судеб. Значит, действие столь же тщетно, как и слава. «Завоевывай или теряй этот мир, — все равно он ничего не стоит». Единственная мудрость — это уединение, молчание, презрение. «Но для слишком живых сердец отдых кажется адом» — и вот Бонапарт завоевывает континент, Байрон пишет «Чайльд Гарольда», и люди волнуются, подобно горячечному больному, который ищет прохлады в движении и не находит этой прохлады никогда, потому что его горячка в нем самом… К вечеру они покинули поле боя, молчаливый Полидори и Байрон верхом на лошади, распевая во все горло песни турецкого всадника.
Франция была закрыта для них, и они поехали в Швейцарию по долине Мааса и Рейна. «Императорская» коляска Байрона привлекала нищих. «Подайте нам что-нибудь, господин командир батальона». «Одно су, монсеньор король Ганноверский!» Эти титулы забавляли Байрона и наполняли радостью сердце его лекаря. «Я с ним на равной ноге, повсюду в путешествии нас принимали совершенно одинаковым образом…»
Читать дальше