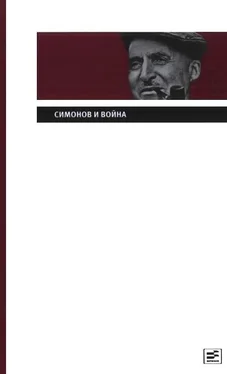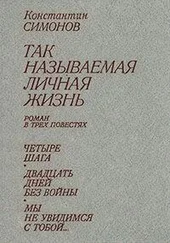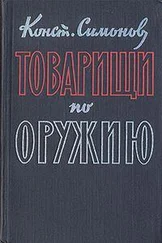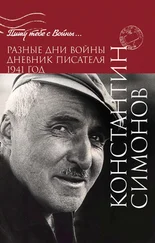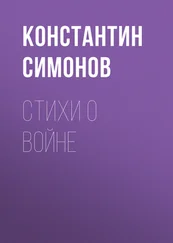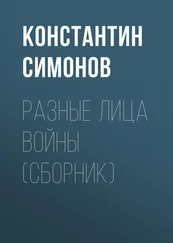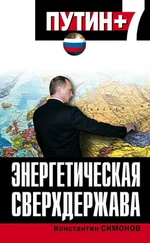Отклонив книгу, Сталин еще несколько минут продолжал говорить о том, как мало у нас занимаются жизнью и бытом людей и какой это большой недостаток нашей литературы.
А весь разговор в тот день начался с обсуждения романа Степана Злобина «Степан Разин». Я хочу выделить эту запись и особо рассказать о том, как происходило это обсуждение, потому что оно произвело на меня сильное и вместе с тем гнетущее впечатление.
Сначала — запись:
«Злобин хорошо вскрыл разницу между крестьянской и казачьей основой движения Разина, — сказал Сталин. — Злобин это вскрыл впервые в литературе и сделал это хорошо. Вообще, из трех движений — Разина, Пугачева и Болотникова — только одно движение Болотникова было собственно крестьянской революцией. А движение Разина и движение Пугачева были движениями с сильным казачьим оттенком. И Разин, и Пугачев лишь терпели союз с крестьянами, лишь мирились с ним, они не понимали всей силы, всей мощи крестьянского движения».
Вот вся тогдашняя запись.
Хорошо помню, что Сталин, сказав о политической стороне романа и его исторической правдивости, перешел к его художественным достоинствам и несколько минут хвалил роман Злобина в таких выражениях, которые он не часто употреблял. Он называл роман очень талантливым, говорил, что автор талантливый человек и что он написал выдающееся историческое сочинение. Судя по всему, что говорил Сталин о романе, ему очень нравилось, как он был написан Злобиным.
Казалось бы, на этом все должно было и закончиться, но в тот момент, когда я так же, как и все другие, посчитал, что обсуждение переходит к следующему произведению, что со Злобиным все ясно и кончено, уже не помню кто, может быть, это был председательствовавший на Политбюро Маленков, перелистнув какую-то папку, сказал:
— Товарищ Сталин, тут вот проверяли и сообщают: во время пребывания в плену, в немецком концлагере, Злобин плохо себя вел, к нему есть серьезные претензии.
Это было как гром среди ясного неба, такого я еще не слышал ни на одном заседании, хотя понимал, конечно, что, готовя материалы для присуждения Сталинских премий, кто-то по долгу своей службы представлял соответствующие сведения в существовавшие где-то досье на авторов. Но об этом никогда, ни разу до сих пор не говорилось, а если что-то и обсуждалось, связанное с этим, то, очевидно, где-то в другое время и без нас, грешных.
Услышав сказанное, Сталин остановился — он в это время ходил — и долго молчал. Потом пошел между рядами мимо нас — один раз вперед и назад, другой раз вперед и назад, третий — и только тогда, прервав молчание, вдруг задал негромкий, но в полной тишине прозвучавший достаточно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе.
— Простить… — прошел дальше, развернулся и, опять приостановившись, докончил: —… или не простить?
И опять пошел. Не знаю, сколько это заняло времени, может быть и совсем немного, но от возникшего напряжения все это казалось нестерпимо долгим.
— Простить или не простить? — снова повторил Сталин, теперь уже не разделяя двух половинок фразы. — Опять пошел, опять вернулся. Опять с той же самой интонацией повторил: — Простить или не простить?
Два или три раза прошелся взад и вперед и, отвечая сам себе, сказал:
— Простить.
Так на наших глазах, при нас, впервые Сталиным единолично решалась судьба человека, которого мы знали, книгу которого читали. Я знал Злобина меньше, чем другие, к книге его был равнодушен, к нему самому не питал ни симпатии, ни антипатии, но само это ощущение, что вот тут, на твоих глазах, решается судьба человека — быть или не быть ему, потому что «простить или не простить» произносилось с такой интонацией, за которой стояла, как мне тогда казалось, с одной стороны, Сталинская премия, а с другой — лагерь, а может быть, и смерть. Во всем этом было нечто угнетающе-страшное, тягостное — и это не последующее мое ощущение, а тогдашнее.
Если ж говорить о последующем, то, в сущности, речь шла не о том, чтобы простить или не простить человека, виноватого перед страной, но написавшего выдающуюся книгу, посвященную истории этой страны. Злобин, как это было доказано впоследствии, был не только ни в чем не виноват перед своей страной, но, наоборот, проявил в лагере незаурядное мужество, играл важную роль в советском лагерном подполье. Таким образом, на наших глазах шла речь не о том, чтобы простить или не простить виноватого, а о том, поверить или не поверить клевете на ни в чем не повинного, клевете, соответствующим образом оформленной в духе того времени со всеми необходимыми атрибутами мнимой неопровержимости.
Читать дальше