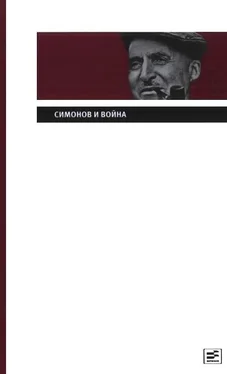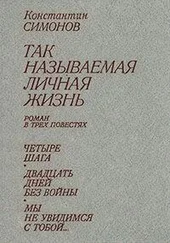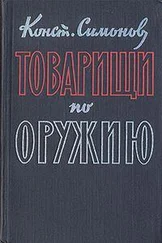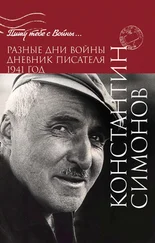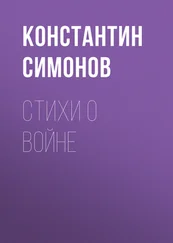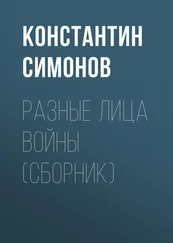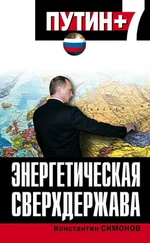Помню, как на последнем заседании, на котором я присутствовал, — оно происходило уже в пятьдесят втором году не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний со столиками-пюпитрами, когда мы пришли и стали садиться подальше, ожидая, что поближе к Сталину сядут вошедшие вместе с ним члены Политбюро, — он полушутя-полусерьезно сказал:
— Давайте вы садитесь поближе, они-то тут каждый день бывают, а с вами мы редко видимся (или: вы редкие гости здесь — что-то в этом духе было сказано).
Но я тогда не понимал до конца того значения, которое придавал Сталин этим встречам, происходившим раз в год. Только уже после его смерти, узнав, как редко в последние годы он принимал людей, его по много месяцев не видели даже и некоторые члены Политбюро; все общение его с миром происходило преимущественно через посредство нескольких людей, никаких сколько-нибудь широких встреч не бывало, — только тогда я задним числом сообразил, что в последние годы жизни Сталин, приглашая нас к себе, на эти заседания, и проводя их неторопливо и, я бы сказал, весьма терпимо к высказыванию и повторению разных мнений, — он как бы раз в год пробовал прощупать пульс интеллигенции через нас самих и через разговор с нами о тех книгах, которые пишутся и издаются. С этим был связан, по-моему, не только характер обсуждений, но и манера поведения Сталина. Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как он бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб — это не значит, что другие люди рассказывали о нем неправду, смешно было бы так думать, люди рассказывали о нем правду, и их рассказы заслуживают полного доверия, а просто раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нем грубости не было места.
Перечитывая сейчас свою запись сорок восьмого года, обратил внимание на одну фразу Сталина, на которую раньше, перечитывая эту запись не раз, не обращал внимания. Подумал о том, какая позиция стояла за его фразой: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — сказанной Сталиным о хорошо написанной, по его же собственному мнению, книге Василия Смирнова о русской деревне начала века? Что значила эта фраза, лишившая премии хорошо написанную, по мнению самого Сталина, книгу? То, что Сталин был прежде всего политик, а потом уже ценитель художественных достоинств литературы? Разумеется, и это. Но не только это. Говоря о Сталине как о политике, в связи с этим конкретным примером стоит, как мне кажется, подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.
Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом утилитаризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.
Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременному изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню.
Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?
Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то — время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.
Читать дальше