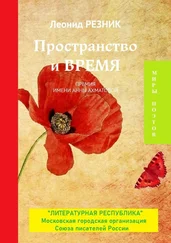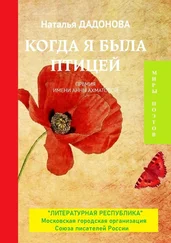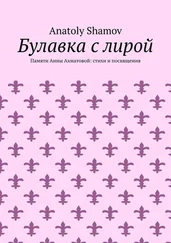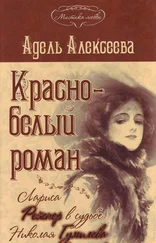Могло ее обидеть и замечание, что людям, которым не суждено дойти до такого превращения, книга Ахматовой покажется волнующей и дорогой. То есть, по сути, называет ее «Четки» стихами для инфантильного, незрелого читателя.
Однако он отмечает, что в этой книге «обретает голос ряд немых до сих пор существований – женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно-убедительным языком. Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута, потому что она знает радость созерцания внешнего и умеет передавать нам эту радость». «Я научила женщин говорить», – скажет сама Ахматова в 1958 году.
Наиболее значительным в поэзии Ахматовой Гумилев считает стилистику: поэтесса почти никогда не объясняет, она показывает. Он выделяет неожиданную цветовую гамму в «Четках», довольно редкую в поэзии: в основном желто-серую. Эпитеты здесь, по мнению критика, подчеркивают бедность и неяркость предмета. «Ахматовой, чтобы полюбить мир, нужно видеть его милым и простым». Отмечает он и особенности ритмики Ахматовой: для нее характерны слабость и прерывистость дыхания. Четырехстрочная строфа, которой написан почти весь сборник, слишком длинна для нее. Гумилев советует поэтессе «выработать строфу, если она хочет овладеть композицией».
И завершается статья следующими рассуждениями: «По сравнению с “Вечером”, изданным два года тому назад, “Четки” представляют большой шаг вперед. Стих стал тверже, содержание каждой строки – плотнее, выбор слов – целомудренно скупым, и, что лучше всего, пропала разбросанность мысли, столь характерная для “Вечера” и составляющая скорее психологический курьез, чем особенность поэзии».
Только однажды Гумилев выступил в печати с критикой стихов жены. Статья эта получилась не однозначно хвалебной, а честной и бескомпромиссной, как всегда. Может быть, чуть строже, чем нужно, чтобы не вызывать в свой адрес нападок и обвинений в протежировании.
В преклонном возрасте Ахматова со смехом рассказывала А. Найману о Гумилеве:
– Он говорил, что вся моя поэзия – в украинской песенке:
Сама же наливала,
Ой-ей-ей,
Сама же выпивала,
Ой, боже мой!
И тотчас продолжила:
– Зато мы, когда он вернулся из Абиссинии, ему пели: «Где же тебя черти носили? Мы бы тебя дома женили!» Тоже хорошо, хоть и не так точно.
Однако в пору выхода «Четок» ей не было так весело. В эти месяцы выходило множество рецензий и отзывов на «Четки», но самые глубокие – это отзывы Гумилева и близкого друга Ахматовой Н. Недоброво. Сама Анна, как и прежде, весьма критично оценивала сборник. Она все сомневалась и, по ее выражению, ныла, что книга плохая. И так надоела своими жалобами мужу, что тот сказал с иронией:
– Ну, если хочешь, чтобы книжка была хорошая, – включи «Анчар» Пушкина.
В апреле же в семье Гумилевых произошла драма, нашедшая отражение в стихах обоих супругов. Чувственный роман с Артуром Лурье не прошел для Анны безнаказанно. В апреле обнаружились результаты, и она оказалась в щекотливом и сложном положении. Ахматова не могла не сказать об этом мужу. Что пережили оба, можно установить по их апрельским стихам.
Для православной женщины поступок Анны был несомненно преступлением. Она переживала это по-своему. В стихотворении «Где, высокая, твой цыганенок» героиня на заданный в первой строке вопрос отвечает:
Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.
В первом варианте: «Сердце матери – темная пытка, / Ах, ее я принять не смогла». Героиня живет по-прежнему весело: «…заблудилась я в длинной весне». Но во сне слышит плач умершего ребенка, а потом бродит по темным комнатам и ищет его колыбельку. Что нужно было пережить, перечувствовать, чтобы написать такие стихи? У стихотворения есть точная дата: 11 апреля 1914 года, Петербург. Очевидно, эта дата важна для Ахматовой, она непременно должна была остаться в памяти. Не тогда ли все произошло?
А следом идут такие стихи:
Не убил, не проклял, не предал,
Только больше не смотрит в глаза.
И стыд свой темный поведал
В тихой комнате образам.
Весь согнулся, и голос глуше,
Белых рук движенья верней…
Ах! Когда-нибудь он задушит,
Задушит меня во сне.
Реакция мужчины на страшное признание передана в жестах, движениях, поступках. Гумилев узнается по белым рукам, по удивительной выдержке в непростую минуту. Герой сокрушен, доверить свой темный стыд он может только Богу. Как точны детали его поведения! Не смотрит в глаза, весь согнулся, голос стал глуше. И эта старательная выверенность движений, когда внутри все дрожит от ужаса и гнева…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
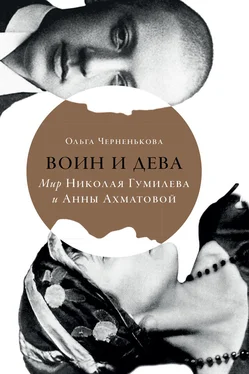
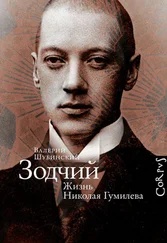


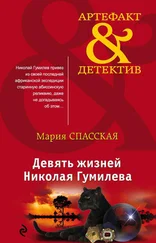
![Элизабет Коули - Как бы поступила Клеопатра? Как великие женщины решали ежедневные проблемы - от Фриды Кало до Анны Ахматовой [litres]](/books/413193/elizabet-kouli-kak-by-postupila-kleopatra-kak-vel-thumb.webp)