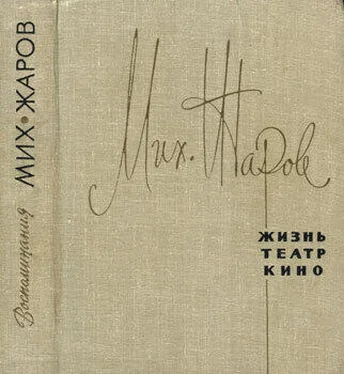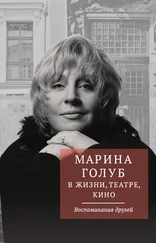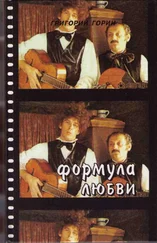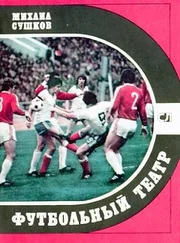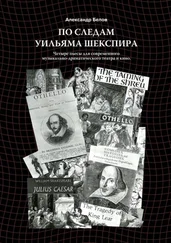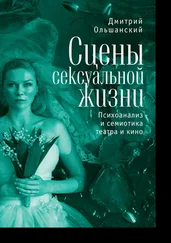Я вернулся в Москву точно к началу сезона. Это был исторический театральный сезон 1917/18 года. Рубеж двух эпох, стык нового и старого мира.
Самым любимым театральным домом был для меня, как я уже рассказывал, Художественный театр. Но еще более близкой была его Первая студия, которая помещалась тогда на Скобелевской площади, ныне площади Моссовета, в "ампирном" доме, на втором этаже. Студией МХТ руководил в то время близкий друг Станиславского, энтузиаст системы, человек и художник, как про него говорили, "высоких моральных стремлений", Л. А. Сулержицкий.
Интимная атмосфера студии, в которой царили гуманность, тончайшая правда человеческих переживаний, искренность, душевное здоровье и моральная чистота творчества, питала мое трепетное восприятие театрального искусства. Да, именно трепетное - другого слова я не могу найти.
Вы входили в дом, где все было обставлено очень скромно, шли мимо белых, под мрамор отделанных колонн, сливавшихся с такими же белыми, ничем не украшенными стенами, и попадали в небольшой зрительный зал.
Сцены в нашем понимании никакой, собственно, не было: зал был разгорожен на две части занавесом от потолка до пола. Потом шли стулья, поднимаясь незаметно, под малым углом, и эта откровенная, наивная простота сразу подкупала зрителя и делала его близким, как бы домашним другом театра. Занимая места, все почему-то говорили шепотом.
Что же там шло?
Первое, что я там увидел, был "Сверчок на печи".
Тогда я, естественно, еще не понимал всей программы, всех устремлений Сулержицкого. Я видел только жизнь человека, индивидуума, и не более. "Соответствует это жизни или нет, -думал я. - Похоже это на то, что я вижу вокруг, или не похоже?" С этих позиций я как зачарованный смотрел на спектакли Первой студии.
Я приходил в театр, радостный, одухотворенный, садился в кресло, и рядом со мной сидели такие же радостные люди; все мы, не отрываясь, смотрели на сцену.
Медленно гас свет, и вдруг, как в сказке, как во сне, как в хорошем фильме, из полутьмы наплывом с правой стороны сцены возникали очертания камина и фигурка одинокого человека, который рассказывал трогательную историю. Закипая, начинал петь чайник. И разворачивалась подлинная жизнь людей, о которых написал Диккенс. Люди на сцене и люди в зале жили одними заботами и страданиями. Это было замечательно. Люди на сцене так проникновенно открывали свои души, так доверительно рассказывали, о чем они думают, так беспредельно и наивно любили друг друга, что, казалось, совсем не замечали, как из темноты зрительного зала им внемлют сотни взволнованных душ.
И злодей в этом спектакле был таким отъявленным мерзавцем и так бесстыдно, не боясь, что его могут уличить свидетели из зала, вершил свои гнусные дела, и жизнь так сложно переплетала добро и зло, была так безобразна в своей разноликости, что на все это нужно было не только смотреть, но об этом нельзя было не думать, после того как уходишь из театра, не делать для себя какие-то выводы. И я скорее снова бежал в кассу и покупал еще билет, и смотрел новый спектакль, и заражался новыми мыслями...
"Вот, - думал я, - что надо делать, чтобы не было плохих людей: надо всем ходить в театр и смотреть, смотреть без конца. Сразу будет видна вся гадость, которая мешает людям жить".
Так рассуждал шестнадцатилетний веснушчатый долговязый философ-самоучка и шел в театр на новый спектакль, смотрел пьесу Шекспира, которая называлась "Двенадцатая ночь", и наблюдал совсем другую жизнь, тщеславие, величие и падение других людей. И какой-то маленький, щуплый артист Н. Ф. Колин повергал его в неописуемый восторг. Играя Мальволио, он так убедительно показывал веру этого нелепого человечка в то, что он писаный красавец, что в него влюблена сама герцогиня, что становилось смешно и грустно. Колин делал это прекрасно, с огромной верой и полным перевоплощением. И потрясенные зрители бежали снова в очередь и покупали билет на "Ведьму" пли на "Чеховские рассказы"...
И снова видели Колина, он играл в "Ведьме" дьячка. Это было так смешно, что я хохотал до упаду, в буквальном смысле сползая со стула.
Вот этот восторг, вот это наслаждение давала нам Первая студия, и мы жили, воспитывались, росли под этим чудеснейшим влиянием. Конечно, сейчас мы понимаем, что истины, которые преподносил нам в то время даже этот передовой московский театр, имели достаточно отвлеченный характер, были ограничены идеалами нравственного самоусовершенствования.
Читать дальше