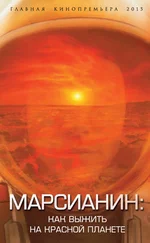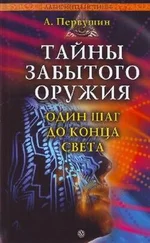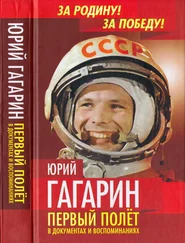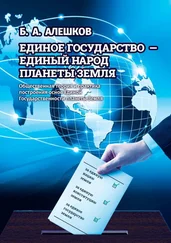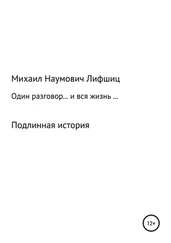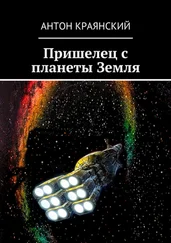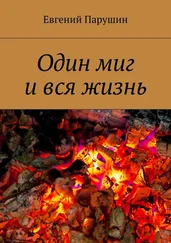Каждый космический год – это новый шаг вперед отечественной науки по пути познания сокровенных тайн природы. Наш великий соотечественник К. Э. Циолковский говорил: „Невозможное сегодня, становится возможным завтра“. Вся история развития космонавтики подтверждает правоту этих слов. То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Нет преград человеческой мысли!»
Через две недели, 14 января 1966 года, Сергей Павлович Королёв скончался на столе хирурга в ходе рядовой операции.
Его смерть потрясла не только близко знавших его людей, но и весь мир. Имя таинственного главного конструктора, которое долгие годы было засекречено, вдруг стало широко известным: помимо обширных некрологов, начали публиковать его статьи, изучать его наследие, издавать его биографии. Создавалось впечатление – во многом ложное! – что он был чуть ли не единственным человеком, созидавшим советскую космонавтику. И разумеется, одной из причин любых последующих промахов называли его преждевременную смерть.
Очень тяжело переживали уход Королёва космонавты, и особенно Юрий Гагарин, для которого Сергей Павлович был суперавторитетом и человеком, открывшим новый образ будущего. И был этот образ настолько зрим, казался настолько близким, что Юрий Гагарин и Алексей Леонов решились на дерзкий поступок: перед церемонией захоронения праха главного конструктора в Кремлевской стене они проникли в крематорий и похитили несколько щепоток, чтобы потом, когда кто-нибудь из них доберется до Луны, устроить символические похороны. Пепел был засыпан в небольшую капсулу. Гагарин прятал ее у себя в рабочем сейфе, но потом она «затерялась». Разумеется, проекты, запущенные Сергеем Павловичем Королёвым при жизни, получили развитие. Вот только не все они были доведены до логического завершения.
Глава сорок пятая
Жертва гонки
Историки космонавтики считают первого заместителя главного конструктора ОКБ-1 Василия Павловича Мишина, занявшего кресло Королёва, менее сильным и целеустремленным человеком. Дескать, будь он «пробивным», как Сергей Павлович, имей он целостное представление о космической экспансии, то сумел бы избежать ошибок и не допустил поражения в лунной «гонке». Но вряд ли стоит перекладывать вину на одного человека. С уходом Королёва расклады почти не изменились – ресурсы, выделяемые на научно-технические программы ракетно-космической отрасли, оставались скудными. Из-за этого обострилась «холодная война» между главами конструкторских бюро, каждый из которых считал свою версию космонавтики более перспективной. В то же время партийное руководство, настаивая на демонстрации скорейших побед в «хрущевском» стиле, не осознавало серьезности технических проблем. Всё вместе это привело к трагическому провалу.
Согласно выпущенному проекту, корабль «Союз» («7К-ОК») предназначался для полета по околоземной орбите с экипажем в составе от одного до трех человек. Сам космический аппарат выполнялся в «активном» («А») и «пассивном» («П») вариантах, которые обеспечивали взаимный поиск, сближение и стыковку (механическое соединение) двух пилотируемых кораблей. Второй задачей, которую предстояло решить, была отработка перехода экипажа из одного корабля в другой через открытый космос, необходимость которого предопределили технические особенности проекта высадки на Луну, проходившего под обозначением «Н1-Л3».
Отличительной чертой «Союза» стала компоновка – он состоял из трех отсеков: бытового (БО), приборно-агрегатного (ПАО) и спускаемого аппарата (СА). Для чего это было сделано? Напомню, что спускаемые аппараты «Востоков» и «Восходов» содержали системы, нужные не только для спуска, но и для орбитального полета в течение 10–14 суток. Вынеся эти системы в другие отсеки, не имеющие тяжелой теплозащиты, проектанты смогли заметно сократить объем и массу спускаемого аппарата и значительно увеличить общий обитаемый объем без резкого роста массы корабля в целом. При этом сферический «востоковский» спускаемый аппарат на «Союзе» превратился в «фару»: за счет формы им можно было управлять; по сравнению с баллистическим спуском, нормальным для «Востока», она позволяла более чем на порядок повысить точность приземления (с 300–400 до 5-10 км) и вдвое-втрое (с 8-10 до 3–5 g) снизить перегрузки при спуске, делая посадку гораздо более комфортной.
Читать дальше
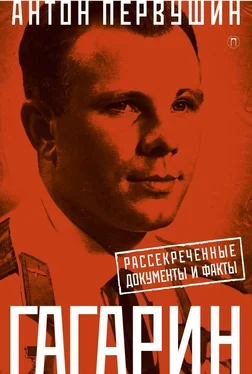

![Антон Краянский - Пришелец с планеты Земля [СИ]](/books/30121/anton-krayanskij-prishelec-s-planety-zemlya-si-thumb.webp)