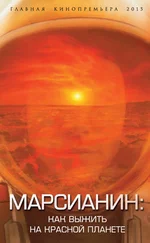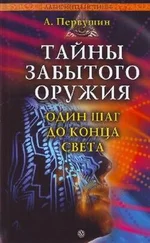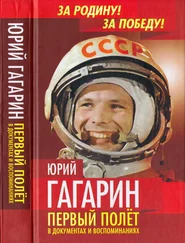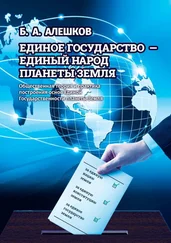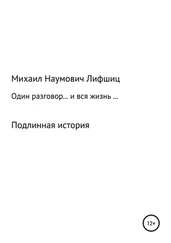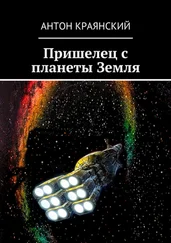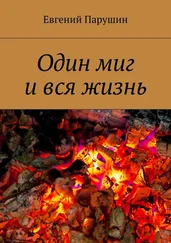Глава тридцать третья
Синдром Титова
Книга Виктора Анатольевича Митрошенкова «Земля под небом» (1981, 1987) содержит множество удивительных историй о Юрии Гагарине. При этом автор предлагал верить ему на слово, поскольку ссылки на реальные документы в тексте попадаются редко, зато всяческих, чуть ли не интимных, подробностей хоть отбавляй. И ему верили и продолжают верить, ведь по большому счету ничего лучше книги-хроники Митрошенкова о жизни Гагарина в советские времена написано не было. Есть там и такой эпизод (цитирую по изданию 1987 года):
«18 июля [1961 года]. ‹…› Вечером [Гагарин] встретился с Сергеем Павловичем Королёвым, рассказал ему о поездке в Англию, об огромном интересе к нашей стране.
– Решение принято: в августе – суточный полет, – сказал Королёв.
– Мне бы хотелось принять личное участие в подготовке, но бесконечные поездки…
– Не переживай, Юра, – Сергей Павлович нежно посмотрел на Гагарина. – Я хорошо знаю, что душой и мыслями ты здесь, с нами. Твои поездки нужны, и они, может быть, играют не меньшую роль, чем наши новые запуски… Мы как бы поддерживаем тебя, помогаем представлять нашу страну… Ты открыл дорогу в космос, ты должен продолжить путь к сердцам честных людей мира…»
В реальность этого эпизода верится с трудом. Хотя советские биографы приняли за аксиому отеческое отношение Королёва к отряду космонавтов, но и они должны были понимать, что главный конструктор вряд ли стал бы тратить время на объяснение того, что и так было очевидно Гагарину: график их деятельности больше не определялся частными желаниями.
То же самое в полной мере касалось и запуска «Востока-2»: Никита Сергеевич Хрущёв увидел, какой пропагандистский эффект дают орбитальные рейсы, и твердо вознамерился подчинить космонавтику политической целесообразности. Поэтому суточный орбитальный рейс должен был состояться не в самый подходящий момент для ученых или инженеров, а в самый удобный с позиций укрепления влияния советского государства.
В том, что вторым после Гагарина на орбите будет Герман Степанович Титов, никто в отряде космонавтов не сомневался. Двадцатипятилетний военный летчик был, судя по документам, самым подготовленным из кандидатов и демонстрировал отличные показатели по любому из критериев. Однако до полета «Востока-2» имя Титова, как и других членов отряда космонавтов, оставалось засекреченным. Даже Гагарин не имел права раскрыть его. Рассказывая о своем дублере в документальной повести «Дорога в космос» (1961), Юрий Алексеевич писал так:
«Вместе со мной в комнате на другой койке расположился Космонавт Два. Уже несколько дней мы жили по одному расписанию и во всём походили на братьев-близнецов. Да мы и были братьями: нас кровно связывала одна великая цель, которой мы отныне посвятили свои жизни. ‹…› Космонавт Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного».
Разумеется, в поздних изданиях редакторы назвали «Космонавта Два» по имени-фамилии. И почему-то ни у кого (кроме коварных западных журналистов, конечно) такая политика не вызвала вопросов.
Впрочем, мы отвлеклись. После полета Гагарина, доказавшего, что человек вполне работоспособен при длительной невесомости, между специалистами вновь вспыхнули споры, каким должен стать следующий космический эксперимент. На основании наблюдений за Белкой высказывалось мнение, что после четвертого витка на орбите могут начаться физиологические изменения, из-за которых самочувствие космонавта резко ухудшится. Поэтому специалисты из ГНИИИ авиационной и космической медицины настаивали на трех витках. Их поддержал академик Мстислав Келдыш. Вопреки им инженеры во главе с Сергеем Королёвым утверждали, что реализовать три витка гораздо сложнее технически, чем суточный полет. Дело в том, что за счет особенностей орбитального движения после трех витков посадка возможна только в западных густонаселенных районах СССР, что осложнит эвакуацию. Кроме того, на тот момент в наличии имелся всего один полностью готовый корабль «3КА», и специалисты собирались использовать его с максимальной пользой, закрыв вопрос о возможности длительного пребывания человека в невесомости раз и навсегда. Аргументы инженеров возымели действие, и на совещании, состоявшемся 20 мая 1961 года в Сочи, стороны согласились, что полет следует назначать суточным, но космонавт при этом должен быть готов к его досрочному прекращению, для чего испытает ручную систему управления кораблем.
Читать дальше
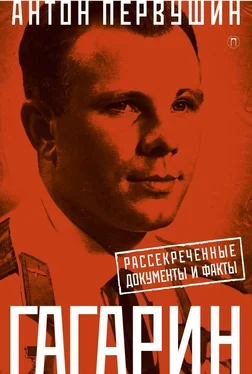

![Антон Краянский - Пришелец с планеты Земля [СИ]](/books/30121/anton-krayanskij-prishelec-s-planety-zemlya-si-thumb.webp)