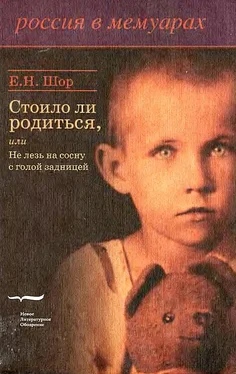Все было бы хорошо в этот день, если бы меня не мучила жажда. Сырой воды мне не давали — любящие взрослые, и мои особенно, боялись в те времена заразы. А кипяченой воды у хозяев не было, и хозяйка вынесла для меня из дома в чашке, белой внутри, питье вишневого цвета и произнесла слово «вишневка». Действительно ли это был перебродивший сироп? Ничего вкуснее этого напитка я не пила ни раньше, ни потом. К сожалению, «вишневка» еще больше увеличила мою жажду.
Мы — мама, Мария Федоровна и я — приехали снимать дачу не одни, с нами приехали Невские, мать и дочь. Таня Невская — первая воспитанница Марии Федоровны, в этой семье Мария Федоровна начала новую для себя жизнь гувернантки. Мать Тани была приветливой, располагающей к себе женщиной. По стриженым кудрявым волосам, по платью и по повадке, уверенной, но сомневающейся в этой уверенности, я отнесла ее к числу новых, советских женщин, отличающихся от моей мамы. Ее дочь была, по моим понятиям, почти взрослая, четырнадцати лет: невысокая и широкая, с широкими и полными плечами, с русыми короткими косами. Ноги у нее были с толстыми икрами, а лицо, миловидное и тоже широкое, румяное, часто расплывалось в улыбке.
У меня еще раньше появились свои представления о красоте. Самыми красивыми мужчиной и женщиной я считала (и не без основания) моего дядю Ма и Елену Ивановну Вишневскую, у которой была дочь Золя, а самым красивым ребенком — Золю. Установив эталоны красоты, я на этом успокоилась, и остальное человечество меня в этом отношении не интересовало. Тем не менее из двух девочек, Тани Невской и Тани Хелиус, дочери хозяев, я невольно отдавала предпочтение второй Тане. Десяти лет, она была такого же роста, как Таня Невская, — тоненькая, с прямыми, стройными ногами, с тонкими руками и тонкой шеей, со смугловатым, без румянца лицом, с узкими, темными бровями, с двумя тонкими, темными косичками, которые она перекидывала то с груди на спину, то со спины на грудь и держала их руками. Казалось, что никто, и мы тем более, ей не нужен, в то время как Таня Невская всем своим существом обращена ко всем.
Это может показаться странным, но в пять лет мир казался мне более новым, чем в три года. Я изменилась. Существо, которым я была до тех пор, представляется мне чем-то вроде колоды, которую взрослые передвигали, переставляли, перемещали по своему усмотрению, или (что более поэтично) коконом, спящим тем живым сном, которого тщетно жаждал Лермонтов. Я не могу сказать определенно, испытывало ли это существо даже довольство жизнью, и все-таки оно было жителем рая: оболочки, его окутывавшие, мешали непосредственному соприкосновению с внешним миром, но они же амортизировали удары, наносимые извне (наверно, развитие нашего существа происходит не только прибавлением, ростом, но и так, как Лев Толстой описывал создание художественного произведения — снятием покровов).
Я помню свою коляску — она стояла неподвижно в передней, высокая, черная. Когда меня выводили гулять в мороз, то мазали щеки гусиным жиром — по нерадивости няньки мои щеки были обморожены. А бабушка кормила с ложечки, напевая: «Съела баба киселя, стала баба весела».
В три года я знала буквы, хотя у меня были сомнения в отношении некоторых из них, и умела читать слова. Я училась читать по вывескам. В городе было много изображений — ключи, очки, кренделя — и еще больше вывесок, часто еще дореволюционных, с твердым знаком на конце слов, с ятями и десятеричным і : «Булочная», «Зубной врач», «Венерические болезни. Гонорея. Половое бессилие». Я просила разъяснений, но Мария Федоровна говорила: «Перестань, глупости. Не твоего ума дело». Вывески, прилепленные к стенам или пристроенные перпендикулярно им, усиливали пестроту улиц, самих по себе пестрых, потому что дома были все разные, побольше и поменьше, повыше и пониже, с окнами разного размера, с крышами разной формы, с украшениями наверху и на стенах, а в те годы, когда начинается моя история, все дома были в разной степени облезлыми. Многочисленные церкви, пусть разоренные и обшарпанные, способствовали многообразию, так же как открытые двери магазинов, лавчонок и мастерских. На улицах помимо люда проходящего было много люда торгующего. (Жалкую и безумную поэтичность моего города я нашла потом точно изображенной в Витебске Шагала.)
В воспоминании эта пестрота побледнела, да она и была не такой яркой, какой ее делают на сцене, а грязноватой и убогой. Мне трудно определить, когда у меня возникли чувство жалости (или неприязни?) к кишевшим на улицах людям и желание не видеть их несчастными. Они должны были обрести довольство жизнью или просто исчезнуть, чтобы мне из-за них не расстраиваться.
Читать дальше