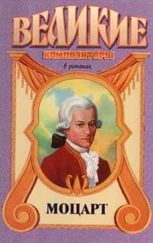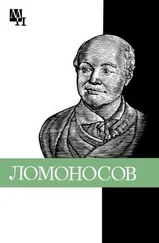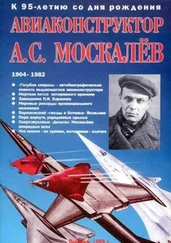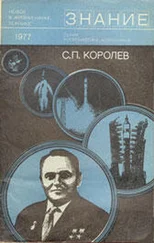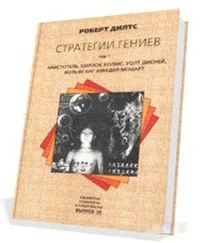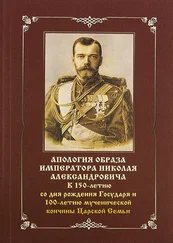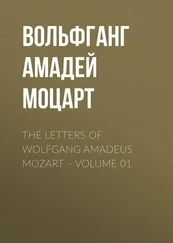Моцарт подошел к теме иначе: в безграничном стремлении Дон Жуана наслаждаться жизнью, в его беспечной юношеской отваге и презрении к религиозным предрассудкам он увидел нечто общее с настроениями, господствовавшими среди его современников. В 80-е годы в Германии и Австрии много писалось о свободе личности, и мечта об освобождении нередко истолковывалась как протест против законов, ограничивающих желания и стремления человека; защитники личной свободы подчас доходили до крайностей: отвергая старые общественные устои, они готовы были отрицать и любые моральные и общественные обязательства.
Сложная проблема личной свободы встает перед нами и в опере Моцарта. К сценическому воплощению ее он подошел не как догматик, а как художник, чутьем понявший противоречивость человеческой психологии и нерешенность вопросов, стоявших перед его современниками. Он не стал, подобно Мольеру и Гольдони, суровым обличителем безнравственности Дон Жуана, но, отдав должное его жизнелюбию, показал невозможность удовлетворения личных страстей и стремлений героя вне его обязательств по отношению к окружающим, вне ответственности за свои действия перед обществом. В этом новом истолковании народной легенды музыкант Моцарт оказался мудрее многих философов и литераторов.
С целью подчеркнуть остроту сценического конфликта, он вновь прибегнул к резкому сопоставлению трагического и комедийного начала и уже в увертюре воплотил драматическую идею оперы в столкновении образов Дон Жуана и Командора: образ Дон Жуана, построенный на песенно-танцевальных мелодиях, является олицетворением беспечного, радостного восприятия жизни, дерзкого протеста против всяких ограничений; образ Командора, основанный на строгих, почти церковного склада, речитативных интонациях, олицетворяет чувство ответственности и морального долга. Эти контрастные характеристики развиваются на протяжении всей оперы.
Остальные действующие лица группируются вокруг обеих центральных фигур, конкретизируя и углубляя основной конфликт; темы Командора находят отражение в характеристиках Донны Анны, Эльвиры, Оттавио, темы Дон Жуана — в характеристиках Церлины и Лепорелло.
Подобная «уплотненная» композиция придала сюжету особую психологическую рельефность — углубила страдальческие черты в образах Донны Анны и Эльвиры, подчеркнула чувственную прелесть образов Дон Жуана и Церлины и цинизм Лепорелло, тем самым сообщив и оперным формам предельную сценическую выразительность. Такие арии, как монолог Дон Жуана «Чтобы кипела кровь горячее», «ария списка» Лепорелло или «ария мести» Донны Анны одним штрихом воссоздают весь облик человека, раскрывают существеннейшие черты его характера и поведения; такие ансамбли, как любовный дуэт Дон Жуана и Церлины, как квартет в первом акте, где Эльвира в отчаянии молит Донну Анну не верить обольстительным речам Дон Жуана, или трагический секстет во втором акте, обнажают самое сокровенное в человеческих взаимоотношениях и конфликтах. Небывалый размах приобретают и финалы, где Моцарт лицом к лицу сталкивает оба враждующих лагеря; живописная картина бала у Дон Жуана (финал 1-го акта) с заключительной сценой, где крестьяне, возмущенные предательством сеньора, и смертельно оскорбленные Эльвира, Донна Анна и Оттавио разоблачают Дон Жуана, в зародыше представляет подлинную массовую сцену (с чем мы до сих пор не встречались в комической опере); перелом в соотношении сил подчеркнут здесь внезапным переходом от блистательных праздничных танцевальных эпизодов к строгой и мрачной музыке заключительного ансамбля.
Таким образом, несмотря на то, что опера состоит из множества небольших эпизодов, рисующих любовные авантюры Дон Жуана, развитие ее отмечено удивительной стройностью и логичностью. При всей контрастности эпизодов, при всей свободе их сценического решения Моцарт неизменно подчеркивает линию «внутреннего действия», вскрывая психологический смысл эпизода, его значение в развитии драматической идеи оперы: рисует ли он трагическую сцену ночной дуэли Дон Жуана с Командором, или лирическую сцену обольщения им Церлины, сцену издевательства над несчастной Эльвирой, где проступают черты дерзкого гротеска, или ссору с Лепорелло, протекающую в бытовом, буффонном плане, — всюду его герой оказывается в противоречии со сложившимися общественными отношениями. Композитор не стремится его унизить и показывает Дон Жуана во всем блеске его рыцарского обаяния, презрения к религиозным предрассудкам, способности увлекаться и увлекать. Но с такой же силой поэтизирует он и чувства оскорбленных им женщин и справедливый гнев тех, кто встал на их защиту. Показывая трагичность переживаний Донны Анны, ее отца, Эльвиры или простодушное горе крестьянина Мазетто, невесту которого обольщает блестящий сеньор, Моцарт без всякой навязчивости подводит слушателя к сознанию закономерности роковой развязки, и финал II акта — появление Командора-мстителя в доме Дон Жуана — становится психологически оправданным завершением сюжета. С предельным лаконизмом воплощает Моцарт это последнее столкновение: стремление призрака сломить дух грешника угрозами небесной кары наталкивается на стойкую защиту Дон Жуаном своей духовной свободы. Он предпочитает умереть, но не покориться, и отважно идет навстречу неминуемой гибели.
Читать дальше
![Елена Черная Вольфганг Амадей Моцарт [К 200-летию со дня рождения] обложка книги](/books/425220/elena-chernaya-volfgang-amadej-mocart-k-200-cover.webp)