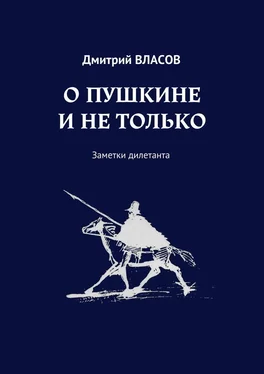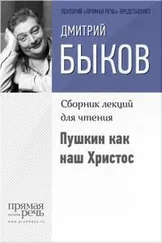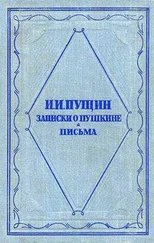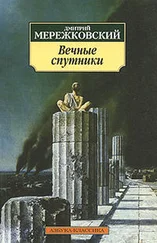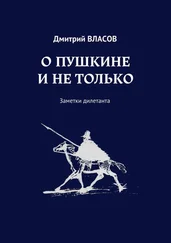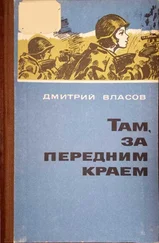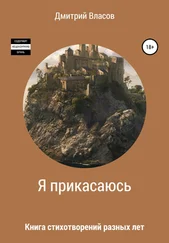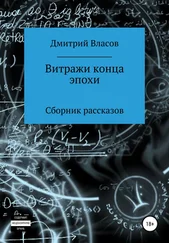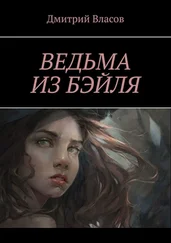Я . Так; но разница: покоряться предписанным нами самими законами, или повиноваться чужой воле.
Он . Ваша правда. (Но разве народ английский участвует в законодательстве? разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?)
Я . В чем вы полагаете народное благополучие?
Он . В умеренности и соразмерности податей.
Я . Как?
Он . Вообще повинности в России не очень тягостны для народа; подушная платятся миром. (Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это вы называете рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать».
И Пушкин ещё добавляет: «в России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища, этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности».
Следующая глава (седьмая) «Рекрутство» — одна из самых острых у Радищева и Пушкин дает целую страницу прямого текста Радищева. И дальше уже сам Пушкин:
«Самая необходимая и тягчайшая из повинностей народных есть рекрутский набор… но может ли государство обойтись без постоянного войска? Полумеры ни к чему доброму не ведут. Конскрипция (то есть кратковременная воинская повинность, авт. ) в течение 15 лет делает из всего народа одних солдат. В случае народных мятежей мещане бьются как солдаты; солдаты плачут и толкуют как мещане. Обе стороны одна с другой тесно связаны. Русский солдат, на 24 года отторженный от среды своих сограждан, делается чужд всему, кроме своему долгу…». Это уже рассуждение монархиста, «государственника», как бы сейчас сказали. Но в деталях — он против «продажи рекрут», формально к тому времени уже запрещенной и против жребия или очереди в рекруты. «Безрассудно жертвовать полезным крестьянином, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу обнищавшего…»
Глава девятая: «Медная (Рабство)».
Цитируется Радищев с описанием продажи за долги людей наравне с домом и полями. «Следует картина ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях, с которым на сей раз соглашаюсь поневоле…».
В последующих главках Пушкин рассуждает о цензуре и придворном этикете, оправдывая, как ни странно и то, и другое. Кто ещё более Пушкина натерпелся и от «чуткой цензуры», и от камер-юнкерского мундира… Но у него самоцель — возражать Радищеву, «разрешившему самому себе свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит изо всех пределов». И снова, каждый раз опровергая Радищева, он поднимает его…
Кончаются пушкинские заметки Вышним Волочком, то есть это всё ещё меньше половины обратного пути к Петербургу. В этом смысле вещь осталась незаконченной, но следовало бы ввести эти страницы в оборот ещё в школе, вместе с «Путешествием» Радищева (представленной и в «Путешествии…» в изложении и подробных цитатах). Вообще же Пушкин к Радищеву относился хорошо, с полным уважением. Не раз упоминал он Радищева в стихах и письмах. И достаточно вспомнить, что в знаменитом «Памятнике» в первой его редакции была строчка «Что вслед Радищеву восславил я свободу». И эти слова имеют прямой смысл, потому что уже в 18 лет Пушкин написал Оду «Вольность» по образцу одноимённой оды Радищева. Естественно, что в своём «Путешествии» Пушкин об этих одах даже не заикается. Его «Вольность» была опубликована только в 1905 году в Академическом собрании сочинений, а до этого известна была только по рукописным спискам отрывком и по герценовской «Полярной звезде». И в первую ссылку Пушкин был отправлен, в том числе, и за эту Оду. Так что судьбы двух этих людей волей-неволей переплетаются. «Вольности» и вольности в России всегда были под запретом.
С литературной стороны «Вольность» Радищева — это 540 тяжёлых уже для нашего восприятия строк, но без них не было бы 96 летящих строк
18-летнего Пушкина, написанных тем самым нашим современным литературным языком, которым мы и пользуемся до сих пор (даже те, хотят они или не хотят, кто вообще не читает книг). И пять русских императоров страшились открыть своим подданным эти, да и многие другие строки нашего Пушкина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу