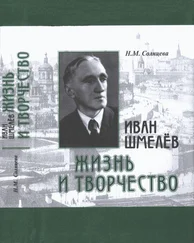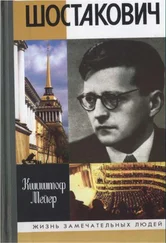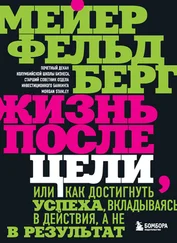В том же году Шостакович возвестил общественности, что приступает к созданию вокально-инструментальной симфонии, посвященной памяти Ленина. Вероятно, это был очередной блеф, как и заявленная шесть лет назад поэма «От Карла Маркса до наших дней». Композитор не раз говорил о сочинениях, которых вовсе не собирался писать, чтобы таким способом выкроить себе немного времени для спокойной работы над чем-нибудь другим. По этой причине он анонсировал, например, оперы «Молодая гвардия» и «Тихий Дон» или симфонию о Гагарине. Теперь он опубликовал в «Литературной газете» статью под названием «Моя работа над Ленинской симфонией», содержащую, между прочим, такие патетические фразы:
«Воплотить в искусстве исполинский образ вождя — невероятно трудная творческая задача. Я хорошо это сознаю. И когда я говорю о сюжете своей симфонии, я разумею не исторические события, не биографические факты, связанные с именем Владимира Ильича, а лишь общую тему, общую идею произведения.
Я давно и упорно думаю над тем, как передать эту тему средствами музыки. Симфония задумана мной как произведение, исполняемое оркестром с участием хора и певцов-солистов. Я тщательно изучаю поэзию и литературу, посвященную Владимиру Ильичу. Надо создать текст симфонии, который будут петь. Этот текст главным образом составится из стихов поэмы Маяковского о Ленине. Кроме того, я хочу использовать лучшие из народных сказов и песен об Ильиче, из стихов, которые сложили о нем поэты братских советских народов. <���…> Внутреннее художественное единство текста заключается прежде всего в том чувстве любви, которым дышит каждое слово народов о Ленине. Литературно-музыкальную целостность должна сохранить и музыка симфонии — единая по замыслу и средствам выражения. Для симфонии будут использованы не только слова народных песен о Ленине, но и их мелодии» [290] Шостакович Д. Заметки композитора // Литературная газета. 1938. 20 ноября.
.
Мнимая работа над этим сочинением длилась до 1940 года, а тем временем Шостакович был занят Шестой симфонией. Никаких подробных сведений о ее возникновении не сохранилось; известно только, что композитор писал ее весной, летом и осенью 1939 года и потратил на это больше времени, чем обычно.
Концепция Шестой симфонии довольно неожиданна. Вместо традиционного четырехчастного цикла с чередованием быстрых и медленных частей появилась своеобразная трехчастная композиция, в которой развитая медленная первая часть (Largo) длится почти двадцать минут, а остальные части, все более быстрые (Allegro и Presto), занимают немногим более пяти минут каждая.
Largo — пример в высшей степени оригинальной трактовки формы, содержащей элементы сонатности и трехчастности. Наиболее существенно, однако, то, что первая тема, собственно говоря, не имеет четко определенного облика; сложенная из трех разных мотивов, она каждый раз предстает как новое их сочетание. Средний, разработочный эпизод заполняют речитативы флейты, вызывающие длительное напряжение и ожидание, разрешающееся только в репризе. Музыкальный язык первой части очень традиционен. Некоторые ее эпизоды словно бы живьем перенесены из какой-то постромантической симфонии (Брукнера, Малера…), другие выдержаны в русских традициях. Много общего имеет эта часть с Largo из Пятой симфонии, хотя не может сравниться с ним по силе выражения.
Скерцо не только захватывает своим юмором, но и впечатляет искусной полифонией и необычным оркестровым колоритом, начиная со звучания по преимуществу камерного (в начале и в репризе) и кончая свирепым tutti в главной кульминации. Несмотря на неизменный метр, ритмика здесь очень капризна, что заставляет вспомнить некоторые партитуры Стравинского.
Столь же лаконичное финальное Presto зиждется на трех несколько банальных темах, похожих одна на другую, и напоминает гротесковые эпизоды некоторых более ранних произведений Шостаковича, прежде всего балетов. Эта часть содержит элементы сонатной формы, с отчетливой кульминацией перед репризой. Кода, развивающаяся по принципу crescendo, близка к жанру легкой музыки.
Партитуру Шестой симфонии композитор доверил Евгению Мравинскому, который исполнил ее в этом же году, 5 ноября. Публика приняла сочинение с энтузиазмом, после одного из первых исполнений слушатели заставили дирижера повторить финал. Тем временем многие критики оценивали новую симфонию как «своеобразное туловище без головы» и писали о противоречивости ее концепции. В Москве постановили организовать специальное собрание, посвященное этому произведению, о чем Шебалин телеграммой известил Шостаковича. Но композитор не согласился приехать и ответил письмом: «Ужасно меня огорчила твоя последняя телеграмма. Очевидно, если решили сделать „прослушивание“, то мое дело дрянь» [291] Цит. по: Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 497.
. А в письме от 7 декабря 1939 года он поделился с Шебалиным своими заботами: «Атовмьян писал мне, что все (sic!) композиторы возмущены моей симфонией. Что ж делать: не угодил я, очевидно. Как ни стараюсь не очень огорчаться этим обстоятельством, однако все же слегка кошки скребут душу. Возраст, нервы, все это сказывается» [292] Письма Шостаковича к Шебалину опубликованы в подборке под заглавием «…Это был замечательный друг» в журнале «Советская музыка» (1982. № 7. С. 78–83).
.
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)