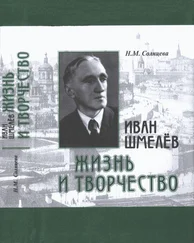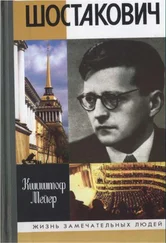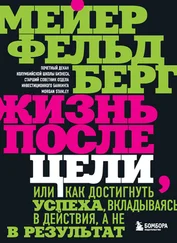В Ленинграде Шостаковича ожидали трагические известия. Только что арестовали мужа сестры Марии, ее саму отправили в лагерь, а тещу насильно переселили в Караганду, поблизости от места ссылки ее мужа. Семейная драма, а затем необходимость включиться в организационную работу, связанную с собранием ленинградского отделения Союза композиторов, явились причиной того, что лишь в июле Шостакович смог уделить время новой симфонии. 20 июля партитура была уже готова.
На собрании ленинградских композиторов постановили, что Пятую симфонию следует представить к оценке и лишь после этого принимать решение, годится ли она для публичного исполнения. Однако прослушивание состоялось только ранней осенью, когда Шостакович вместе с Никитой Богословским исполнили симфонию в четыре руки в помещении Союза композиторов. Уже в фортепианном варианте сочинение привело в восторг всех собравшихся, которые, предвидя огромное воздействие этой музыки, способствовали тому, чтобы новую симфонию рекомендовали к исполнению. Премьера должна была состояться в рамках декады советской музыки, организованной в честь двадцатой годовщины Октябрьской революции. В это время Фриц Штидри уже выехал за границу, поэтому Пятую симфонию доверили молодому, еще не слишком известному дирижеру Евгению Мравинскому.
Мравинский, родившийся 4 июня 1903 года в Петербурге, с детства соприкасался с музыкой. Его мать занималась пением как любитель, зато тетка была известной русской певицей, выступавшей на сцене Мариинского театра под именем Евгении Мравиной. Еще ребенком он восхищался музыкой Чайковского, а позднее Вагнера. Закончив в 1920 году среднюю школу, Мравинский поступил в университет. Однако работа в качестве оперного статиста не позволила ему продолжать учебу. С 1921 года он работал пианистом-аккомпаниатором в хореографическом училище. Впервые он пробовал поступить в консерваторию в 1923 году, в класс контрабаса, но не был принят. Через год он попытал счастья вторично, сдав приемные экзамены на теоретико-композиторский факультет. На этот раз его зачислили в класс профессора Михаила Чернова, у которого Мравинский занимался два года. Затем он учился у Христофора Кушнарева и — до 1932 года — у Владимира Щербачева. Уже будучи автором нескольких интересных произведений, он в 1927 году записался в класс дирижирования Николая Малько, который не увидел в молодом музыканте особых способностей и поэтому учил его без энтузиазма. В 1929 году Малько уехал за границу, и руководство дирижерским классом принял на себя Александр Гаук. Только в нем Евгений нашел понимание; с тех пор его развитие становилось все более быстрым и многообещающим. 23 мая 1930 года, на третьем году обучения, Мравинский завоевал большой успех, продирижировав на учебном концерте фрагментами из балета «Раймонда» Александра Глазунова. Вскоре он обратил на себя всеобщее внимание интересной интерпретацией Хаффнеровской серенады Моцарта.
Весной 1931 года Мравинский окончил консерваторию, а уже летом в первый раз встал перед оркестром Ленинградской академической филармонии. Его выступления встретили превосходный прием у публики и критиков, которые предсказывали ему великолепное будущее. В 1932–1938 годах он занимал должность дирижера в Академическом театре оперы и балета. Проводимые им балетные спектакли «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Асафьева и опера «Мазепа» Чайковского стали крупными музыкальными событиями. Работая в оперном театре, Мравинский не порывал связей с симфоническим оркестром. Он неустанно обогащал свой репертуар произведениями русской и мировой классики, часто дирижировал сочинениями советских композиторов.
В 1937 году Мравинскому было тридцать четыре года. Замкнутый, не всегда уверенный в своих возможностях, он на этот раз взялся за работу над новой симфонией Шостаковича без внутренних колебаний. В 1966 году он вспоминал: «До сих пор не могу понять, как это я осмелился принять такое предложение без особых колебаний и раздумий. Если бы мне сделали его сейчас, то я бы долго размышлял, сомневался и, может быть, в конце концов не решился. Ведь на карту была поставлена не только моя репутация, но и — что гораздо важнее — судьба нового, никому еще не известного произведения…» [261] Мравинский Е. Тридцать лет с музыкой Шостаковича // Дмитрий Шостакович. С. 112.
В действительности же — и тем значительнее заслуга Мравинского — на карту было поставлено нечто большее: судьба самого автора симфонии. Ситуация, в которой оказался Шостакович после разгромных статей «Правды», была всем хорошо известна, так же как и то, что его музыка с тех пор ни разу не исполнялась в Ленинградской филармонии.
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)