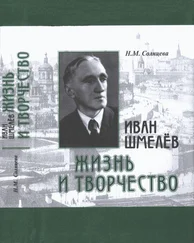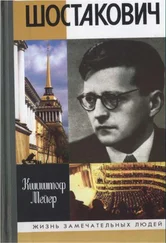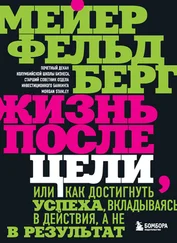Независимо от АПМ и Проколла продолжали творить композиторы, придерживавшиеся неоромантических традиций русской классики XIX века, но в своем большинстве это были второразрядные мастера, среди которых лишь Глазунов и Глиэр обеспечили себе место в истории музыки.
Партия постепенно, но последовательно усиливала свое влияние на культурную жизнь и художественное творчество. Поначалу все ограничивалось отдельными высказываниями и небольшим давлением, которое со временем набирало силу. Наличие партийного билета начало давать право выступать от имени партии, пролетариата и даже истории. Левые художники и партийные деятели притязали на управление искусством, выражением чего стала, между прочим, организация пролетарскими писателями газеты с весьма красноречивым названием «На посту».
Всех творческих работников, которые не связали свою судьбу с пролетарским движением и просто хотели спокойно жить, Лев Троцкий в 1923 году окрестил «попутчиками». По его мнению, «попутчики» не были врагами народа, но представляли неоднозначную мировоззренческую позицию. Быстро и без колебаний к «попутчикам» причислили Максима Горького, поскольку он жил за границей, и даже Маяковского. Более того, ведущий журналист «Правды» Л. Сосновский безжалостно заклеймил Маяковского только за то, что тот осмелился предъявить иск «одному из наших старейших товарищей И. Скворцову-Степанову», который, как руководитель издательства, «отказался заплатить гонорар за какую-то футуристическую чушь, опубликованную в театральном журнале». Сосновский озаглавил свою статью так: «Довольно „маяковщины“», а закончил ее недвусмысленной угрозой: «Мы постараемся прекратить ваши неуместные и слишком дорогие для республики шутки» [71] Правда. 1921. 8 ноября.
. И это было не первое предостережение в адрес «попутчиков». Вскоре напомнили историю расстрела поэта Николая Гумилева [72] Расстрел одного из замечательнейших русских поэтов того времени Николая Гумилева, мужа Анны Ахматовой, был одной из первых провокаций секретной службы, основанной в декабре 1917 г., руководимой Феликсом Дзержинским и выступавшей под названием Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 28 августа 1922 г. в «Известиях» появилась информация о существовании некой петроградской боевой организации, в которую входили как военные, так и ученые. В то же самое время арестовали, уже по обвинению в заговоре против советской власти, свыше двухсот человек, и среди них много ученых, в том числе известного химика и старого большевика, некогда дружившего с Лениным, профессора М. Тихвинского, а также Гумилева, который еще до революции отошел от левых убеждений. Это была одна из крупных демонстраций большевистского террора, которая должна была послужить предостережением всем противникам нового режима.
. Людям умственного труда начали открыто угрожать изгнанием и «карающим мечом диктатуры».
Следующий этап расширения влияния партии на искусство определила резолюция Центрального комитета от 27 февраля 1922 года «О борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской» [73] См.: Метченко А., Дементьев А., Ломидзе Г. За глубокую разработку истории советской литературы // Коммунист. 1956. № 12. С. 86.
. Резолюция четко определяла, какие литературные произведения можно публиковать, а какие не следует. В частности, было рекомендовано печатать работы молодых писателей, входивших в образовавшуюся после революции литературную группу «Серапионовы братья», но при условии «неучастия последних в реакционных изданиях». А то, какие издания являются реакционными, решала партия.
В середине 20-х годов протестующие голоса стали затихать и все реже появлялись в печати. Ведущий литературный критик П. Коган уведомлял:
«Революции надолго приходится забывать о цели средства, изгнать мечты о свободе для того, чтобы не ослаблять дисциплины. „Прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное“ — вот что пока принесла революция нового: вместо золоченого — железное ярмо. Кто не понимает, что это единственный путь к свободе, тот вообще ничего не понимает в совершающихся событиях» [74] Коган П. Литература этих лет: 1917–1923. Иваново-Вознесенск, 1924. С. 79.
. Коган с уважением отмечал «исключительный интерес, который проявляет современная беллетристика к чека и чекистам. Чекист — символ почти нечеловеческой решимости, существо, не имеющее права ни на какие человеческие чувства, вроде жалости, любви, сомнений. Это — стальное орудие в руках истории» [75] Там же. С. 73.
. И в качестве такового орудия он должен выполнить свой долг перед историей: заставить народ быть счастливым.
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)