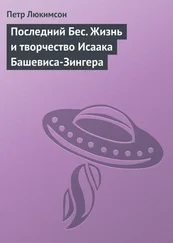— Познакомьтесь: польский композитор Кшиштоф Мейер — композитор Андрей Яковлевич Эшпай. Это, понимаете, очень хороший композитор, очень хороший; вдобавок, понимаете, сам инструментует! — с каменным лицом сообщил мне Шостакович.
Они быстро переговорили о чем-то, и Эшпай вышел из кабинета.
— Эта ваша соната, так сказать, очень интересна, понимаете, очень интересна. Хорошая музыка, она мне, так сказать, понравилась… А у вас что-то еще есть, что-нибудь еще принесли? — спросил Шостакович, неожиданно потеплев. — Струнный квартет, хорошо, струнный квартет…
Он взял в руки партитуру, и в тот же миг приветливое выражение исчезло с его лица так же внезапно, как за минуту до того появилось.
— Зачем другая нотация? — спросил он бесцеремонно. — Вот мода сейчас такая…
Я попытался ему объяснить, что подобного рода музыку невозможно записать с помощью традиционных знаков.
— Да-да, мода, — еще раз повторил он, как бы не слыша моих слов, перелистал три странички и сразу заметил, словно перед этим уже видел партитуру: — А тут, кажется, должно быть до-диез, а не до.
Я посмотрел в ноты. Действительно! Он в одну секунду заметил ошибку, а это означало, что он мгновенно проник в суть музыки, которой совершенно не одобрял, потому что, когда мы сыграли последнюю часть произведения в четыре руки, вновь повторил предыдущее суждение, как будто я вообще не показывал ему Квартет:
— Ваша соната — хорошее произведение, оно мне, так сказать, нравится. Хорошо, что вы играете на рояле. Каждый композитор обязательно должен играть на рояле.
Последнюю фразу Шостакович неоднократно повторял во время всех наших последующих встреч.
Он встал, отошел от рояля к столу, уселся спиной к окну и снова достал из кармана пачку папирос. Хотя я сам никогда не курил, на какое-то мгновение мне стало интересно, а не угостит ли он и меня. Однако он вынул всего одну папиросу, закурил и тут же погрузился в свои мысли. Внезапно он словно бы очнулся, на его лице вновь появилось приветливое выражение, и он в третий раз повторил свое мнение о моей сонате. Потом оживился:
— Нужно организовать концерт вашей музыки, лучше всего здесь, в Союзе композиторов. Устроим концерт, устроим концерт. Нужно проводить обменные концерты между союзами композиторов, между Варшавой и Москвой.
Говорил он тихим, хрипловатым, высоким дискантом, глотая слоги и неоднократно повторяя некоторые слова. Затем добавил, что в ближайшем будущем собирается выбраться в Польшу. На вопрос, когда приедет и связано ли это с «Варшавской осенью», ответил:
— Нет, не на «Варшавскую осень», нет-нет. Я вам напишу, когда приеду. Напишу письмо.
Такого письма я так никогда и не получил и не слышал, чтобы он собирался организовать обменный концерт между нашими творческими союзами. Быть может, быстро об этом забыл или это предложение было простой вежливостью с его стороны…
Я был очень рад нашей встрече, однако разговор никак не клеился. Я хотел многое узнать, спросить о разных вещах, связанных с его музыкой, но все мои попытки оживить беседу оказывались тщетными. Шостакович сидел как на иголках, курил папиросу за папиросой и буквально отделывался от моих вопросов. Например, я очень хотел узнать, почему его ранняя музыка к спектаклю «Гамлет», написанная в 1932 году для театра Вахтангова, была столь гротесковой и юмористической, не имеющей связи с трагедией Шекспира.
— Потому, что такова была концепция режиссера, — молниеносно отреагировал Шостакович, прежде чем я закончил свой вопрос.
Когда я начал вспоминать, что слушал по пражскому радио его Первомайскую симфонию, в то время еще неизвестную и не исполнявшуюся, то он просто притворился, будто не слышит, о чем я говорю. В конце концов я понял, что он не имеет ни малейшей охоты обсуждать свою музыку. Но когда я вспомнил, что на днях купил партитуры квартетов, на лице Шостаковича появилось выражение удовлетворения.
— А, квартеты, — загорелся он. — Да, квартеты. Дайте мне эти партитуры, я их вам подпишу!
И, к моему удивлению, буквально выхватил у меня из рук первый том, раскрыл его, на минуту задумался и спросил:
— А как, собственно говоря, пишется ваше имя?
Я остолбенел: такой вопрос после трех лет относительно оживленной переписки! А ведь я и сам уже должен был заметить, что ни в одном из своих писем он не обошелся без ошибки в написании либо моей фамилии, либо имени, либо адреса. И так продолжалось до конца нашего многолетнего знакомства, хотя с годами оно переросло в настоящую дружбу. Я не знал также, что те несколько милых слов, которые Шостакович написал в моей партитуре, служили одним из двух образцов посвящений, которыми он почти автоматически одаривал всех — близких и дальних знакомых, охотников за автографами и друзей: «На добрую память» или «С лучшими пожеланиями».
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)