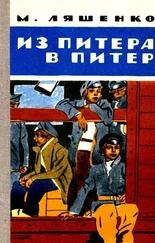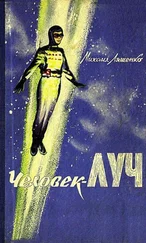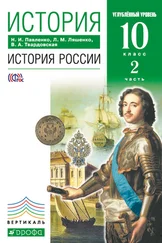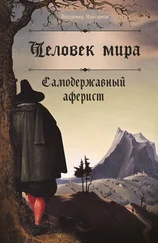Что за этим последует, вообразить ужасно, но всякому понятно» {162} 162 РА. 1869. № 7–8. Стб. 1897.
.
Многие современники действительно были уверены, что Александр для упрочения своей власти был готов пойти на самые радикальные преобразования в социальной сфере. Что же в «польской речи» монарха так взволновало его подданных? Наверное, в частности, следующий пассаж: «Образование, существующее в вашем краю, дозволило мне ввести немедленно то правление, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законносвободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь с помощью Божией распространить на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости» {163} 163 Цит. по: Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 49.
.
На тех подданных, которые были настроены либерально, речь Александра произвела двойственное впечатление. Будущий декабрист С. Г. Волконский писал: «…слова его о намерении распространить и в России вводимый им конституционный порядок управления произвели сильное впечатление в моем сердце, как по любви моей к отечеству, так и по желанию моему, чтоб отечество выдвинулось из грязной колеи внутреннего своего бытия» {164} 164 Волконский С. Г. Указ. соч. С. 396.
. С другой стороны, многих «либералистов» обидело то, что в качестве примера для России монарх выбрал Польшу, считая польскую шляхту более просвещенной, чем русское дворянство. Сам же Александр Павлович писал по поводу этой речи своему давнему конфиденту, члену Государственного совета Родиону Александровичу Кошелеву: «Будучи совершенно неопытным и отлично чувствуя, как трудно мое положение и насколько нелегко может быть исправлено то, что я едва ли не в первый раз в жизни собирался возвестить с высоты трона перед лицом всей Европы, я обратился к Спасителю, и он внушил мне то, что вылилось из-под моего пера» {165} 165 Цит. по: Шильдер Н. К. Указ. соч. Т. 4. СПб., 1898. С. 87.
. (Правда, в основном перо-то было Ивана Антоновича Каподистрии, составлявшего проект речи; но руку к документу монарх, безусловно, приложил основательно.)
Между тем, вопреки ожиданиям, наместником российского императора, остававшегося и королем Польши, стал не Адам Чарторыйский, а престарелый и во всём послушный Петербургу генерал Юзеф Зайончек. Полномочным представителем монарха в Варшаве назначили Н. Н. Новосильцева, а главнокомандующим 35-тысячной польской армией — великого князя Константина Павловича. Широко распространились слухи, что Александр хотел присоединить к конституционной Польше земли, отнятые во время разделов Речи Посполитой в 1772–1793—1795 годах. Дыма без огня, как известно, не бывает. Одной из собеседниц, которая со слезами на глазах просила монарха не делать этого, Александр ответил: «Нет и нет. Я даже этого не оставлю России! И, в конце концов, в чем, по-вашему, зло этого отделения? Разве Россия без этих губерний недостаточно велика?» {166} 166 Цит. по: Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 50.
(Тогда же Александр вновь вспомнит о событиях 1789–1793 годов в Париже и укажет на необходимость разграничить принципы революции и ее преступления {167} 167 См.: Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Письма и политические сочинения. М., 1963. С. 81–82.
.)
Вообще идеи конституции и введения представительного правления с успехом шествовали в то время не только по России, но и по всей Европе, причем зачастую по инициативе именно русского царя. В 1814 году была установлена конституционная монархия во Франции, конституционное устройство возникло в некоторых германских княжествах, вновь подтверждена шведская конституция. В самой Российской империи продолжала действовать конституция, данная Финляндии (1809), а в апреле 1818 года был обнародован «Устав преобразования Бессарабской области», определявший особый режим автономного самоуправления; таким образом, Бессарабия, присоединенная после войны с Турцией по Бухарестскому договору (1812), тоже получила некие конституционные начала, пусть и в меньшей степени, чем Польша или Финляндия.
1818–1819 годы были последним всплеском откровенного александровского либерализма. Именно в эти годы вышли статья преподавателя Царскосельского лицея А. П. Куницына «О конституции» и другие явно либеральные произведения. В первом номере «Духа журналов» за 1819 год была опубликована статья «Дух времени», в которой говорилось о преимуществах парламентского строя по сравнению с абсолютистским. Знаменитая варшавская речь императора была переведена на русский язык и появилась в газетах, за что министр внутренних дел, поторопившийся с напечатанием документа, немедленно получил выговор {168} 168 См.: Шебунин А. Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX в. Л., 1925. С. 91.
. Иными словами, с точки зрения Зимнего дворца, традиционная организация власти в 1810-х годах безнадежно устарела. Действительно, смешение функций различных частей государственного аппарата, отсутствие контроля за исполнением правительственных решений, разрыв между издаваемыми законами и их исполнением, произвол и повсеместная коррупция делали необходимым проведение коренных преобразований.
Читать дальше