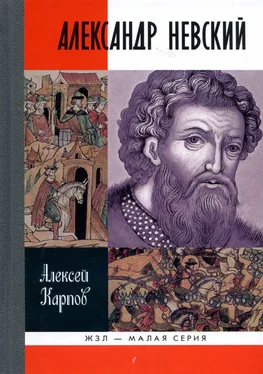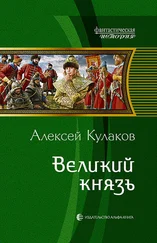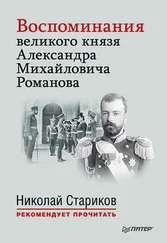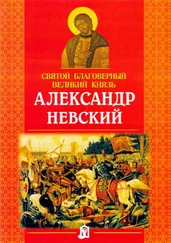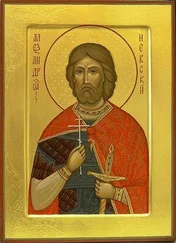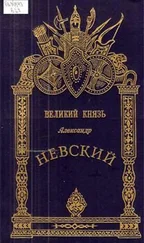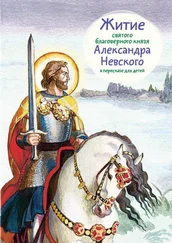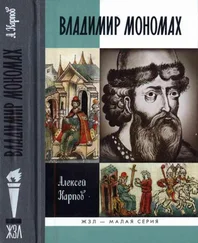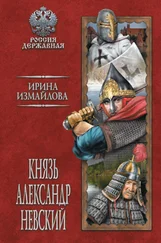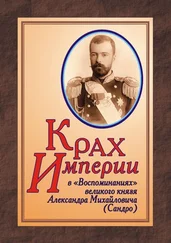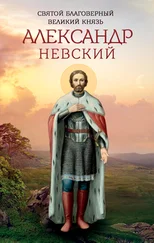Из Софийской Первой летописи (по списку Царского)
Пошёл князь Александр Ярославич в Орду, к царю Сартаку. В том же году пришли Певрюй, и Котия, и Олабуга храбрый на землю Суздальскую со многими воинами, силою татарскою, на великого князя Андрея Ярославича. Ибо по преставлении великого князя Ярослава великое княжение Владимирское дали сыну [его] князю Андрею. Было же то в канун Борисова дня [153]. Безбожные татары переправились под Владимиром через Клязьму и, таясь, пошли к городу Переяславлю. На утро же, на Борисов день, встретил их великий князь Андрей сот своими полками. И сразились оба полка, и была сеча великая. Гневом Божиим, за умножение грехов наших, побеждены были погаными; великий же князь Андрей едва убежал. И приехал в Великий Новгород, новгородцы же не приняли его; он же поехал ко Пскову и пробыл там немного, ибо поджидал свою княгиню. Когда приехала к нему княгиня его, поехал великий князь Андрей с княгинею в немецкий город Колывань. И оставил тут княгиню, а сам отправился за море, в Свейскую землю; мейстер же свейский встретил его и принял его с честью. Он же послал за княгинею в Колывань, и приехала к нему княгиня его. Пробыл же некоторое время в Свейской земле, потом пришёл в свою отчину. Безбожные же татары пленили город Переяславль и возвратились оттуда в землю свою…
(52. С. 87)
Из Никоновской летописи
…В том же году пришли из Орды царевич Неврюй [154], и князь Катияк, и князь Алабуга храбрый ратью на великого князя Андрея Ярославича Суздальского… и на всю землю Суздальскую. Князь же великий Андрей Ярославич Суздальский смутился в себе, говоря: «Господи, что се есть! Доколе нам меж собою браниться и наводить друг на друга татар; лучше мне бежать в чужую землю, нежели дружиться и служить татарам». И, собрав воинство своё, пошёл против них, и, встретившись, начали биться, и была битва великая, и одолели татары, и побежал великий князь Андрей Суздальский с княгинею своею и с боярами своими…
(43. С. 138)
Можно догадываться, что поездка князя Александра Ярославича в Орду была связана с переменами на ханском престоле в Каракоруме, где летом 1251 года великим ханом был провозглашён Менгу (Мункэ), союзник Батыя. По свидетельству китайских источников, Менгу был твёрд и решителен, а в управлении вельможами весьма строг. Он пресёк злоупотребления прежних лет и покончил с неразберихой периода междуцарствия, провёл многочисленные казни и опалы. В частности, особым указом были полностью отменены «все пайцзы [155], печати, высочайшие указы, рескрипты и ярлыки, которые выдавались без меры двором каана и чжуванами» [156]в предшествующие годы (16. С. 186–187).
Следовательно, теряли силу решения, принятые несколькими годами раньше недоброжелательницей Батыя, вдовой Гуюк-хана Огул-Каймиш (сама ханша была подвергнута унизительной и мучительной казни). А ведь именно в её правление брат Александра Андрей получил ярлык на великое княжение Владимирское, а сам Александр — на великое княжение Киевское. В отличие от брата Александр был крайне заинтересован в пересмотре этих решений и получении в свои руки великого княжения Владимирского, на которое он — как старший из Ярославичей — имел больше прав, нежели его младший брат Андрей. Андрей же, надо думать, считал иначе. По-видимому, именно этим не в последнюю очередь и объясняется его мятеж против ордынского «царя».
Не знаем мы и того, как вёл себя в ставке Сартака Александр. В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» приводит рассказ, судя по которому именно жалобы Александра на брата привели к страшной «Неврюевой рати» и разорению Северо-Восточной Руси:
Иде князь великий Александр Ярославич во Орду, к хану Сартаку, Батыеву сыну, и прият его хан с честию. И жаловася Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна. Хан же разгневася на Андрея и повеле Неврюи салтану идти на Андрея и привести его перед себя…
(71. С. 40)
Однако едва ли Татищев извлёк этот текст из какого-то «раннего источника, не попавшего в летописи», как считают некоторые исследователи (126. С. 148; 93. С. 51–52). Скорее, перед нами естественное стремление историка XVIII века разобраться в сути описываемых летописью событий, восстановить их внутреннюю логику, опираясь на сходные факты из более поздней нашей истории, когда русские князья нередко приезжали с жалобами на своих братьев в Орду.
Читать дальше