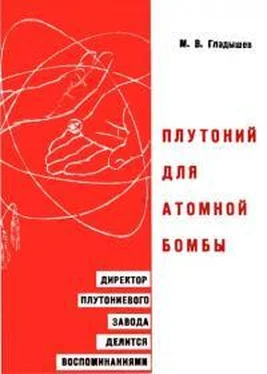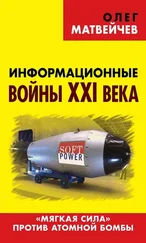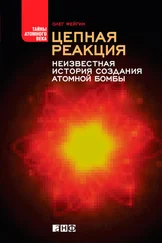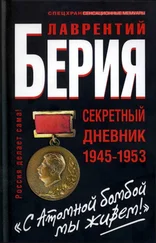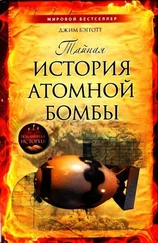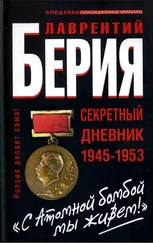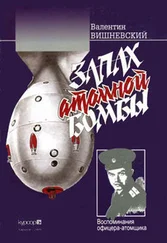Начальник объекта Петр Иванович Точеный работал недолго. Был постоянно предметом шуток, забавных рассказов о нем. Как он ходил на оз. Карачай на охоту в полном охотничьем снаряжении, но без ружья. Вроде бы ему оно не требуется, все равно мимо стреляет. В те времена это озеро было забито дичью, и туда охотники ходили с Петром Ивановичем. Были и трагические случаи. Так, например, он решил проверить внутреннее состояние аппарата-202 — растворителя. Залез нормально, а выбраться не мог, т. к. был полный и неловкий. Пришлось монтажникам вытаскивать его и с большим трудом. Он и закончил свою службу на этом объекте благодаря своей чудаковатости. Как-то в середине 1949 года приехал на стройку Берия. Естественно, его встречали трепетно, вылизав объект до полной чистоты. Помимо большой свиты своей личной охраны, его сопровождал Петр Иванович и Громов Борис Вениаминович. Петр Иванович, слабо зная детали производства и своих людей, путался в рассказах и называл Берию по имени Абрам Павлович, а не Лаврентий Павлович — как правильно. Берия рассердился и приказал уволить с работы Точеного. В этом же обходе Борис Вениаминович Громов давал толковые объяснения, знакомил с персоналом, зная их по имени и отчеству, и показал свою блестящую память и эрудицию. За пуск завода Берия наградил Громова званием Героя Социалистического Труда. Вот так бывало, да бывает и сейчас. В те времена наказывали и награждали довольно резко. Так, за ввод нашего объекта, после пуска всего комбината и испытания в сентябре 1949 года первой атомной бомбы были такие награды, которых сейчас нет. Например, главному технологу проекта Якову Ильичу Зильберману построили под Ленинградом дачу, такую же премию получил Никольский Всеволод Дмитриевич — дачу под Москвой, а архитектор-строитель Ленинградского института ГСПИ — П. Ротшильд — автор проекта высокой железобетонной трубы, был удостоен не только премии, но и получил право поездки на всех видах транспорта в любом направлении без ограничения числа поездок круглый год. Это право мы называли «ковер-самолет». Многие были награждены орденами и даже мне, сравнительно рядовому исследователю, вручили в Кремле орден Ленина. Такая награда меня радует до сих пор. Но я несколько вышел вперед.
Октябрь, ноябрь, декабрь 1948 года для меня остались в памяти как самые трудные месяцы подготовки и пуска завода. Мы изучали теорию на занятиях, практику на монтаже, осваивали так, чтобы, не глядя на схему, знать, где что стоит, где как проходят трубы, как расположены ключи и штурвальчики управления на щите. Монтаж еще продолжался, а мы начали водную обкатку, проверку проходимости, тарировку приборов. Почти все приборы изобретались заново. В создании средств контроля показал себя одним из талантливых инженеров и хорошим организатором — Семен Борисович Цфасман. Он сам, своими руками отлаживал поплавковые уровнемеры, контактные сигнализаторы и датчики счетчиков активности. Они были все примитивные, но работали так, что позволяли ориентироваться. Когда наладили прибор замера гамма-активности и появилась на перфоленте запись кривой, мы обратили внимание, что активность меняется по времени отстоя и догадались определять характер отстоя по кривым записи. Это теперь всем кажется, что иначе и быть не может, а тогда мы с Семеном Борисовичем обрадовались такой возможности и заложили этот показатель прибора в инструкцию. Все открывалось заново, впервые. Мне поручили быть ведущим технологом отделения конечного передела, т. е. аффинажа и я делал все, что мог. Когда проектировали объект, ко многим вопросам и решениям подходили наивно, без должной смекалки. Только уже в период освоения очень многое исправлялось.
Так, например, линия с реагентами и сдувок смонтировали за щитом управления на расстоянии 1,5—2 метра, не догадываясь о том, что в эти линии могут попасть активные растворы, фон от которых был высокий и облучал операторов. В каньонах, где фильтровали осадок, содержащий плутоний и высокоактивные продукты деления, через ткань Петрянова, которую потом, после растворения осадка, снимали вручную, наивно полагая, что осадок будет чистый. Аналогичное решение, только в еще худшем варианте, было сделано в другом, 15-м отделении, где фильтровали осадок урана в виде соли уранилтриацетата, и эту соль, после промывки вручную, совками пересыпали в мешки. Так готовился продукт 80, который отправлялся потребителю. От большого фона гамма- и бета-излучений поражались аппаратчики, которые заболели лучевой болезнью, а некоторые из них умерли. Сдувочные линии из аппаратов, где проводились осадительные процессы в растворах с огромной активностью, врезались в вытяжную вентиляцию, и были случаи выброса пульпы с активным осадком в вентиляционные короба, откуда свисали сосульки желтого осадка и стекалась жидкость большой активности на отметку, т. е. на пол, по которому ходили люди и разносили «грязь», очень опасную «грязь», по всем помещениям. Вентиляционные короба входили в большую трубу, из которой воздух, загрязненный сдувочными газами, выбрасывался в атмосферу, загрязняя территорию аэрозолями, содержащими продукты деления урана.
Читать дальше