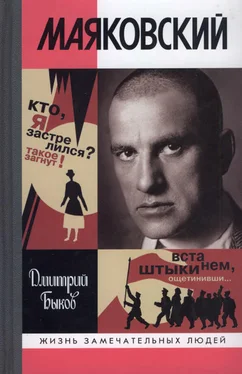До вас этой темы никто еще не коснулся с такою силой. И так умно». В какой степени это справедливо — судить читателю, если найдется сегодня читатель «Цемента». Луначарский горячо поддержал роман, утверждая, что «на этом цементном фундаменте» надо строить новую советскую литературу. «ЛЕФ» набросился на роман, опубликовав статью Брика «Почему понравился цемент»: умную, дельную, полную таких же темных намеков, как стихотворение Маяковского, но кому надо — разберется.
«Мы не знаем, как реагирует на него массовый читатель, но официальным критикам, рецензентам, библиотекарям, культпросветчикам, агитпропщикам и прочим зав-литам «Цемент» понравился безусловно.
А между тем, книга плохая.
Понравилась плохая книга. <���…>
В его (Гладкова) задание вовсе и не входило рассказывать, как в действительности происходило дело, как постепенно преодолевались трудности восстановления нашего хозяйства. Ему нужно было сочинить чистокровного пролетарского скакуна, блестяще берущего барьер за барьером. Выдумать пролетарского героя, который знать ничего не желает, прет напролом и победоносно оканчивает дистанцию под гром аплодисментов восхищенных зрителей.
Героика — это литературный прием, при помощи которого одному человеку (герою) приписывается сумма деяний (подвигов), являющихся в действительности результатом работы целого ряда людей. Прием этот давнишний, и социальные корни его с достаточной ясностью вскрыты марксистской критикой. Стоило ли его воскрешать, да еще в применении к такой теме, как строительство советского хозяйства?
Гладков втиснул тему в готовый литературный штамп. Получился Глеб-Ахиллес, Глеб-Роланд, Глеб-Илья Муромец, но Глеба Чумалова не получилось. Форма задушила тему. Это грубая ошибка. Это и есть та плохая формалистика, которую на словах поносят, а на деле поощряют наши присяжные литературные критики.
В «Цементе» есть все, что рекомендуется в лучших поваренных книжках, но повесть получилась несъедобная, потому что продукты не сварены; и только для вида смяты в один литературный паштет. «Цемент» понравился потому, что люди, мало что смыслящие в литературе, увидели в нем осуществление своего из пальца высосанного литературного идеала. Им показалось, что наконец-то мы получили вещь, по всем статьям подходящую под многочисленные литературные тезисы.
А в действительности «Цемент» — плохая, неудачно сделанная, вредная вещь, которая ничего не синтезирует, а только затемняет основную линию нашего литературного развития: преодолеть в трактовке советских тем героический штамп и найти такую литературную форму, которая бы тему не насиловала, а развивала по ей лишь свойственным особенностям.
Нетрудно подвести всех Глебов под Геркулеса. Но кому нужна эта греко-советская стилистика? Едва ли самим Глебам. Скорее тем, кто и советскую Москву не прочь обратить в «пролетарские Афины».
Последний намек ясен — имеется в виду Луначарский, горячо одобривший книгу и известный любовью к античности: именно его дурному вкусу и соответствует «Цемент». Главная претензия не сформулирована вслух: «Цемент» плох тем, что притворяется большой литературой, не имея ни одной из ее примет — ни психологической глубины, ни интеллектуальной новизны (это действительно так). Вместо новой литературы читателю предлагают заново идеологизированный, подкрашенный штамп, вместо героя — плакат, но суть в том, что и вместо новой жизни читателю — жителю, современнику, — предлагается чуть подкрашенный, идеализированный, ухудшенный вариант прежней. Горького и Луначарского — защитников старой культуры — это вполне устраивает; Маяковский и его круг видят подмену — и протестуют не столько политически, сколько эстетически (но ведь и революция их была эстетической, что скрывать).
Заодно попало Иосифу Каллиникову (1890–1934), написавшему «Мощи» («Монахи и женщины») — четырехтомный роман, из которого в издательстве «Круг» напечатали в 1926 году первые три тома. Каллиников, известный куда менее Гладкова, был на тот момент эмигрантом, жил в Праге. Открыл его действительно Горький, способствовавший публикации в СССР книги рассказов «Баба-змея». Про «Мощи» стоило бы сказать чуть подробнее, потому что, честно говоря, это самая плохая книга, которую я вообще держал в руках. Ну то есть совсем плохая. Можно понять, почему Маяковский упомянул ее дважды — в «Письме Горькому» и в стихотворении того же года «Про школу и про учение». «Но… Калинников под партой: провоняли парту «Мощи». Он упорно его так писал — с одним «л» и двумя «н». Не знаю, о чем думал Горький, рекомендуя печатать это сочинение, представляющее собой, как бы сказать, самого плохого Арцыбашева, пересказанного слогом Ремизова. Это цикл слабо связанных между собою, действительно порнографических повествований — но порнографией чего только не называли: не в грязи дело, в искусстве многое допустимо, если талантливо. Но сколь бы трагична ни была судьба самого Каллиникова, книга его производит именно впечатление «болотца длинненького», от которого только нос зажать. Иное дело, что Горький помогал не одним только бездарям (да и «Цемент» на этом фоне — шедевр); но Маяковский, чтобы ударить побольнее, выбрал именно «этого… Калинникова».
Читать дальше