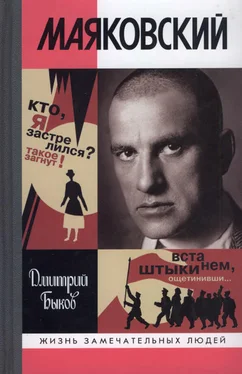«К сожалению, нельзя не отметить, что этих как у него слишком много: как, как, как, как. (Он даже цитировал эту инвективу — как собственную — в разговоре с одесской возлюбленной, Женей Хин: «Облако» читать не буду, слишком много «каков». — Д. Б.) Сперва это нравится, но скоро наскучивает. Нельзя же строить все стихотворение на таких ошеломительных «как». Нужны какие-нибудь другие ресурсы. Но в том-то и беда Маяковского, что никаких ресурсов у него порой не случается. Либо ошеломительная гипербола, либо столь же ошеломительная метафора. Возьмите «Облако в штанах», или поэму «Человек», или поэму «Война и мир», едва ли там отыщется страница, свободная от этих фигур. Порою кажется, что стихи Маяковского, несмотря на буйную пестроту его образов, отражают в себе бедный и однообразный узорчик бедного и однообразного мышления, вечно один и тот же, повторяющийся, словно завиток на обоях. Убожество литературных приемов не свидетельствует ли о психологическом убожестве автора, за элементарностью стиля не скрывается ли элементарность души?
Если прибавить к этому, что почти каждое стихотворение Маяковского построено с тем расчетом, чтобы главный эффект сосредоточивался в двух последних строках, так что две первые строки всегда приносятся в жертву этим двум последним, — бедность и однообразие его литературных приемов станут еще очевиднее. Для того чтобы усилить вторые пары строк, он систематически обескровливает первые.
Вообще быть Маяковским очень трудно. Ежедневно создавать диковинное, поразительное, эксцентричное, сенсационное — не хватит никаких человеческих сил. Конечно, уличному поэту иначе и нельзя, но легко ли изо дня в день изумлять, поражать, ошарашивать? Не только нелегко, но и рискованно. Это опаснейшее дело в искусстве. Вначале еще ничего, но чуть это становится постоянной профессией — тут никакого таланта не хватит».
И это верно. Это, может быть, самое точное, что о Маяковском вообще написано — по крайней мере при жизни; но кто сказал, что поэт должен быть разнообразен — и должен писать долго? Маяковский не был рассчитан на долгую жизнь. Ресурса для развития у него в самом деле не было, как не было и желания развиваться, как нет в самом его характере способности к переменам; и Чуковский, который всю жизнь менялся, иногда рос, иногда деградировал, — не познал ли полной мерой всех издержек этой гибкости? Гибкость — ключевое слово в разговоре о нем: он и внешне — такой же рослый, такой же некоммуникабельный, такой же уверенный на трибуне и тяготящийся людьми в повседневном общении, — был Маяковскому противоположен. Маяковский стоит монументом — Чуковский вьется ужом, пламенем, вьюном. (Не стану ссылаться на часто цитируемые воспоминания Д. Бабкина о том, как однажды Чуковский в академической капелле говорил вступительное слово, затянул его, Маяковский вытолкал за кулисы трибуну вместе с Чуковским, а в ответ на ропот зала точно так же вывез его обратно на сцену; никакими другими мемуаристами — включая участников инцидента — это не подтверждается, но трудно сомневаться, что Маяковский и Чуковский могли бы на равных бороться за внимание аудитории.)
Правда заключается в том, что Чуковский Маяковского понимал и любил — но сам при этом был ему абсолютно не нужен, кроме как на первых порах для организации скандалов на лекциях; Маяковский не нуждался ни в покровительстве, ни в анализе, ни в том, чтобы критик объяснил ему его самого. Все это формы помощи — а самоубийцы не нуждаются в помощи; или, вернее, нуждаются в том, чтобы их подталкивали к гибели и создавали для этой гибели оптимальный фон.
В день его смерти Чуковский записал в дневник:
«Один в квартире, хожу и плачу, и говорю «Милый Владимир Владимирович», и мне вспоминается тот «Маякоуский», который был мне так близок — на одну секунду, но был, который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я как дурак «покровительствовал»; который играл в крокет как на биллиарде с влюбленной в него Шурой Богданович; который добивался, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет, и жил на мансарде высоченного дома, и мы с ним ходили на крышу <���…> и ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо «милый Владимир Владимирович» я уже говорю, не замечая, «Берегите, сволочи, писателей». В последний раз он встретил меня в Столешниковом переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе — а потом не захотел (очевидно) со мной видеться — видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь… Казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, «возобновим», и я скажу ему, как он мне свят и почему — и мне кажется, что как писатель он уже все сказал, он был из тех, которые говорят в литературе ОГРОМНОЕ Слово, но ОДНО, — и зачем такому великану было жить среди тех мелких «хозяйчиков», которые поперли вслед за ним — я в своих первых статьях о нем всегда чувствовал, что он трагичен, безумный, самоубийца по призванию, но я думал, что это — насквозь литература (как было у Кукольника, у Леонида Андреева) — и вот литература стала правдой».
Читать дальше