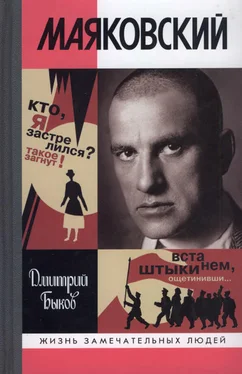5
Le ton que fait la musique задается с первых строк: «К мелкокалиберному Олыпевцу — не будем забывать почина его — присоединился широкожерлый Полонский, тупожерлый Лежнев, и даже бешеный огурец профессор Шенгели пытается взять нас на пушку, всеми силами стараясь выдать себя за артиллерию». Несчастным лефовским полемистам было невдомек, что тут не сговор, а глас времени.
Прежде всего Полонскому отвечают на остроту насчет желтой и красной кофты: «Да и вообще эта тема щекотливая — кто на что менял: желтую кофту на красную, адвокатскую визитку «Новой жизни» на скромный френч «Нового мира». Это, пожалуй, и побольнее будет — желтая кофта ничем себя перед революцией не запятнала, а горьковская «Новая жизнь» была ярко антибольшевистской. Дальше Асеев остроумно — хотя и чересчур крикливо — разоблачает «адвокатские» риторические приемы Полонского, его неизбежную финальную ссылку на постановление ЦК, защищает Малкина: «На т. Малкина он считает удобным вставить в статью прямой донос, опираясь на столь ароматный материал, как сплетническая книжка Мариенгофа». Защищает и Шкловского — на него Полонский решил «натравить «наших военных работников», у которых с Полонским близкие сношения: всю гражданскую войну на редакторском кресле просидел». Главный залп прибережен под конец: «Гордясь и умиляясь собой как редактором, упрекая Леф в самовлюбленности и отклоняя от себя в его сторону «злость» бухаринских заметок, Полонский выступает невиннейшей девушкой, проведшей всю свою молодость без единого пятнышка в прошлом. Что это не так, что плохим редактором Полонский был не только для Чужака, Левидова и Шкловского, об этом Полонский не помнит. Мы ему вежливо и не напоминали этого до тех пор, пока он шел опустя глазки. Но если его крик о собственной добродетели становится назойливо-безапелляционен, то мы ему рекомендуем бросить стыдливый взор на шестую книгу «Нового мира» за прошлый год. Там редакция, — а редакция «Нового мира» и есть Полонский, — скромно признается в явной и грубой ошибке, допущенной незадолго перед тем.
(Имеется в виду публикация «Повести непогашенной луны». — Д. Б.) Как быть с этим, т. Полонский? Ведь это-то уже не превосходно?! Ведь это-то уж «прямо скажу, подозрительно» не только для вышеупомянутых вами в столь презрительном контексте товарищей?
Впрочем, разве это умерит пафос византийствующего редактора, лабазника, пожарника и адвоката?»
Полемика на этом не прекратилась, но выдохлась: стороны донесли друг на друга, апеллировали к ЦК, не получили внятного ответа — но все более некомфортно чувствовали себя и «перевальцы», и Полонский, и ЛЕФ. Маяковский из ЛЕФа в январе 1930 года ушел, и это, в сущности, был еще один шаг к самоубийству; группа без него осиротела и с ним рассорилась. Полонского сняли с редакторского поста в «Новом мире» за год до его безвременной и спасительной смерти, в 1931 году. Спор не кончился ничьей победой — и не мог кончиться, это вам не полемики Серебряного века или начала двадцатых, в которых имелся момент реальной соревновательности (хотя и здесь нередко побеждал тот, у кого было меньше моральных ограничений). Единственным следствием этой полемики, — все участники которой примирились или по крайней мере смирились, — стал окончательный уход Пастернака из ЛЕФа.
И этого Маяковский не простил. Он мог помириться с Полонским — который был изначально чужой, — но Пастернака считал своим. И все попытки Пастернака навести мосты — он вообще не любил ссориться, закипал и остывал, начинал раскаиваться — закончились ничем. В последний раз он пытался помириться с Маяковским в новогоднюю ночь 1929 года — и, услышав страшные слова: «Так ничего и не понял. От меня людей отрывает с мясом!» — так стремительно сбежал из Гендрикова, что даже забыл шапку.
Пастернак в письме Раисе Ломоносовой от 27 мая 1927 года блистательно охарактеризовал и лефов, и полемику с ними Полонского, и стиль лефовских ответов: «Есть журнал «Леф», который бы не заслуживал упоминанья, если бы не сгущал до физической нестерпимости раболепную ноту. По счастью, совесть видно до конца не вытравима и у современников. Журнал вызвал резкий, эмоционально понятный, отпор. Пошли диспуты о «Лефе». Аргументация противников стоит лефовской: лицемерие вращается вокруг лицемерия. Те же ссылки на начальство, на авторитет, как на олицетворенную идею, то же мышление в рамках должностного софизма, то же граммофонное красноречие. Вот из этого ложного круга, в оба полукружья которого я взят против моей воли, катастрофически и фатально, надо выйти на месте или по крайней мере попытаться. С Маяковским и Асеевым меня связывает дружба. Лет уж пять как эта связь становится проблемой, дилеммой, задачей, временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. <���…> И клочок из «Лейтенанта Шмидта» был дан Маяковскому (мне тяжко стало его упрашивание). Я не представлял себе, что будет в журнале и каков будет журнал. Когда же я увидал, что… <���…> фальшь стала их преимущественным делом и правом, которое они, как какое-то дарение свыше, с пеной у рта оспаривают у более бледных гипокритов, готовых даже сказать правду лет через пять, — отношения наши пришли в ясность. Маяковского нет сейчас тут, он за границей. Мне все еще кажется, что я их переубежу и они исправятся».
Читать дальше