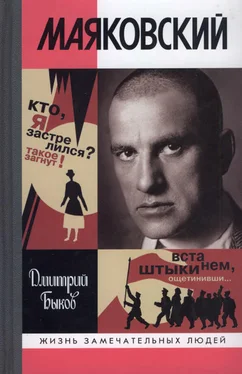Можно думать, что литературная ситуация двадцатых переломилась именно на этой повести: Пильняку ничего еще не было, расправу отсрочили, настоящая травля началась в сентябре 1929 года, после заграничной публикации невиннейшего «Красного дерева» (и Маяковский в ней, о чем ниже, поучаствовал) — однако главная журнальная задача кардинально поменялась. Раньше она состояла в том, чтобы привлечь к журналу внимание, успеть раньше других напечатать сенсационный текст или высказать яркую мысль, — и Полонского, торопившегося донести до читателя пильняковскую вещь, можно понять. Он искренне недоумевал, когда Скворцов-Степанов, ответственный редактор «Известий», член ЦК, идеолог цензуры, жестко выговаривал ему за публикацию «Повести». 6 марта 1927 года он сообщает в дневнике: «Вечером вчера беседа с Иваном Ивановичем. Сообщил мне, что меня хотят, в конце концов, — в результате всех историй — снять с работы.
— Да каких историй? — воскликнул я. — Ведь историй-то нет; с Пильняком ведь была ошибка — и только».
Хороша ошибка! Десять лет спустя он бы за нее точно поплатился жизнью, но успел умереть своей смертью — большая удача по советским меркам. Лефовцы, однако, отвечая на статью «Блеф продолжается» в пятом «Новом мире» за 1927 год, успели попрекнуть его этой политической ошибкой: в ход шли уже любые аргументы.
4
В чем суть этой печальной полемики и кто был в ней прав, на нынешний взгляд? Полонский в «Блефе» номер два уделил Маяковскому особое внимание — первые три главки нового памфлета касаются его персонально. На Маяковского навешивается ярлык «богемца», повторяется это определение в одном абзаце пять раз. «Богема — остается богемой даже тогда, когда меняет желтую кофту на красную, если при этом она не забывает старых богемских привычек. Самой характерной чертой богемы, особенно ее бунтовавших представителей, — были именно интеллигентское самомнение, гипертрофия индивидуализма, самовлюбленность, высокомерие, «наплевизм» на все, что вокруг. Они более всего заметны в фигуре вождя русского футуризма».
Сразу скажем, что вождем российского футуризма Маяковский не был: главный идеолог и организатор футуризма дореволюционного — Бурлюк, идеолог ЛЕФа — Брик, а Маяковский просто самый талантливый из них, и его славой они, конечно, пользовались, но стратегию движения разрабатывали именно Брик и Третьяков. По Маяковскому бьют как по наиболее заметному, за это он и расплачивается, становясь ответчиком за все установки «Нового ЛЕФа», которым он в собственной практике следует далеко не всегда.
Дальше опять начинается атака — не на то, что инкриминируется Маяковскому в действительности, а на то, что раздражает Полонского тайно; все слова — псевдонимы, везде эффектная формула вместо сколько-нибудь глубокого содержания, и это характернейшая примета новых полемик. Со слов приходится сдирать маски. Надуманность предлогов поражает: «Наша литература не имеет другого образца, в котором столь же пышно был бы отраден облик гениальничающего богемца, крикуна и нигилиста». Это сказано про «Все сочиненное», книгу, которая вся — один отчаянный вопль, а уж никак не «высокомерное поплевывание на Атлантический океан, на Шекспира и Пушкина, на Венеру Милосскую». «Цикл 1912 года открывается стихотворением «Я» <���…> как много этого самого «Я» — не слишком ли много для одного человека?» О, вечный упрек, сколько слали Маяковскому записок про это ячество! «Маяковский, что вы все пишете — я, я, я?» — «А Николай Второй всегда говорил «Мы, Николай Второй», — он что, был коллективист? А если вы любимой девушке скажете «Мы вас любим» — она первым делом спросит: а сколько вас?»
Предъявлять лирическому поэту претензию — не слишком ли много «я»? — это же надо так всерьез угождать всеобщей нивелировке конца двадцатых, и кто это пишет? — Полонский, защитник авторской индивидуальности! «Гордо, руки в брюки, поэт проходит мимо неба, почтительно склонившего выю» — это про финал «Облака». Да что же он действительно ничего не понимает? Всё понимает отлично, знает, что такое гипербола, но всё, что было хорошо для предреволюционных и первых пореволюционных лет, в 1927 году уже смертный грех: кричать, негодовать, бунтовать в 1916-м — хорошо и правильно, а десять лет спустя надлежит быть тише воды и ниже травы. По меркам первой половины двадцатых Базаров — нигилист, разрушитель и, следовательно, наш человек; а в марте 1928 года, в статье «Идти ли нам с Маяковским», напечатанной в вапповском «На литературном посту», Корнелий Зелинский так прямо и клеймит: «Наш нигилизм больше шел не от силы, а от желчности, больше от душевного возмущения и чувства собственного бессилия, плененности у русской природы, у царского режима, у чего хотите. Упрямая, линейная фанаточность, мучающая себя самих фраза — вот что было часто внутренней пружиной у наших нигилистов».
Читать дальше