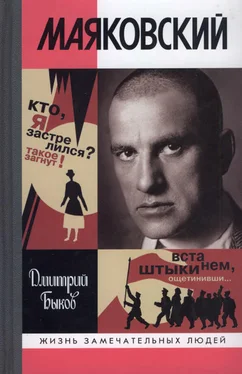4
Но чего действительно никак не обойти, так это констатации Шкловского: да, стал писать вдоль темы. То есть — не из личного опыта и не по личным мотивам. Прежние вещи написаны для исцеления души, для разрядки невыносимого психического напряжения; теперь, однако, революция дала ему другую жизнь и проблемы революции стали его личными проблемами. Он все поставил на эту карту. Личной жизни больше нет — потому что какая может быть личная жизнь, если революция кончится? Личный страх смерти улетучился: мучившая его проблематика упразднена или, точнее, целиком переведена в социальный план. Несчастной любви больше нет, и если любимая отказывает ему — то это она отказывает революции. А революция у нас такая, что ей никто не отказывает. Нет больше трагедии «Владимир Маяковский» — есть 150 000 000, осуществилось долгожданное растворение, и всё, что мучает человеко-единицу, растворено теперь в бесконечном безликом множестве. Это тоже такой способ решения экзистенциальных проблем, это бывает. Все его экстатические проклятия единице в «Ленине» — все эти «Единица вздор, единица ноль», — не старательное следование руководящей философии (с такой страстью не прислуживают и не выслуживаются, поднимай выше!): это расправа с собственными страданиями в качестве единицы. Иван — троянский конь новой «Илиады», что и подчеркивается параллелями: когда Вильсон располосовал его шашкой (представьте только Вильсона — с шашкой!), из Ивана хлынула не кровь, а толпа. Люди полезли. Лирический герой в самом деле счастлив, что он — «этой силы частица, что общие даже слезы из глаз»; но это не потому, что он коллективист. Он одиноким был и умрет, но в силу вечной инфантильности и чуткости ад индивидуального бытия для него невыносим.
Утопия Маяковского — это именно утопия растворения; он теперь не признает и эстетического преемства с Уитменом и Уитмен сделан у него прислужником Вильсона. А почему? А потому что индивидуалист. Маяковский ненавидит индивидуалистов не потому, что они исторически обречены, а потому, что завидует им. Они могут жить сами по себе, а он нет. Для него называться «Владимир Маяковский» — трагедия, потому что Владимир Маяковский не может спокойно переживать то, что переживают миллиарды остальных. Растворение личного невроза и личного отчаяния в миллионах сограждан — вот литературная и психологическая задача этой вещи (потому что, согласитесь, никто не пишет национальный миф из желания помочь молодой Советской республике; а если пишет, так у него и получается лубок). Всю свою историю человечество тратит на преодоление смерти, не говоря уже о прочих неприятностях вроде изначального трагизма бытия, одиночества, невзаимности и пр. Маяковский был вполне прав, говоря, что подобной поэмы еще не было, — ибо принципиально нов сам подход к задаче: если в «Облаке» гремят «четыре крика четырех частей» — долой вашу любовь и т. д., — то в «Миллионах» все еще радикальнее: долой мое эго. Потому что все проблемы — в нем: Владимир Маяковский — трагедия, а 150 000 000 — эпос с элементами пародии. 150 000 000 не могут умереть, не могут быть неправы, не могут страдать от неразделенной любви. 150 000 000 непобедимы, а если к ним, как в поэме, приплюсовать еще и муравьев, — они забьют всех (в финале присоединяются еще и марсиане). Кратковременным возвращением в кошмар индивидуального бытия станет «Про это» — но это будет так ужасно, что больше автор к самому себе не вернется никогда. Словно всё это время, что он растворялся в массе, его лирический герой так и стоял над Невой и ему там делалось хуже и хуже. Никакого больше «я». Только 150 000 000.
У него целый лубок на эту тему, с названием, просившимся в пословицу, но не ушедшим в фольклор — поскольку наш-то народ знает, как полезно тут иногда не присоединяться к большинству: «Одна голова всегда бедна, а потому бедна, что живет одна».
Так крестьянин
и кружится белкой,
едва зарабатывая
на прокорм.
Никак
от формы
хозяйства мелкой
ему не подняться
до высших форм.
Почти одновременно, ненадолго вернувшись к лирике, он сам себе возразит:
В этой теме, и личной и мелкой,
Перепетой
не раз и не пять,
я кружил
лирической белкой
и готов кружиться опять.
Но это — последнее возвращение от «высших форм» к мелкой форме хозяйства. Больше он про Лилю ничего не напишет.
5
Могут сказать, что «150 000 000» и вообще поэзия без «я» — не поэзия. Отчего же, вполне поэзия — как для тех, чья личность еще не сформировалась (и кто вообще не начал еще мыслить), так и для тех, кто больше не выносит ее бремени. Двадцатый век и был веком массового бегства от своего «я» в массу: не зря один из главных романов этого века называется «Мы». И «150 000 000» — отличный повод поговорить о том, что такое поэзия масс; что могут написать поэты, решившие отказаться от «я».
Читать дальше