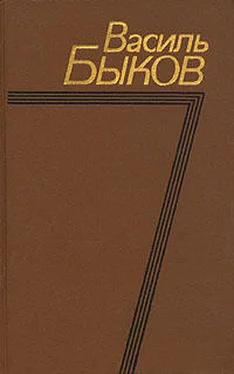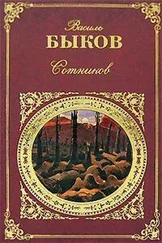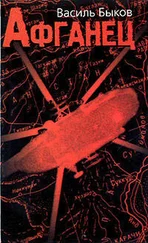Сущеня в испуге смотрел на него и думал: что все это значит? Наверное, сейчас выстрелит в спину. Или в затылок? Или скомандует часовому, который стоит на крыльце? Однако что делать, следовало исполнять команду, и он ступил за порог, шатко, неуверенно, задев плечом за косяк, вышел на крыльцо. Часовой полицай сразу схватился за винтовку, но, увидев позади немца, тотчас опустил винтовку к ноге. Второй часовой, у калитки, решительно загородил проход, но сзади гаркнул Гроссмайер: «Пропустить!» — и он, вякнув свое «яволь», пропустил — отворил и закрыл за ним калитку. Сущеня вышел на улицу, боясь оглянуться: неужто не выстрелят? И не крикнут, чтобы воротился назад? Нет, не выстрелили и не крикнули, и он, словно заяц, выпущенный из мешка на волю, что было силы кинулся по улице, перебежал на другую сторону. С угла растерянно оглянулся: у калитки спокойно наблюдал за ним часовой, а с крыльца как-то совсем по-приятельски просто помахал рукой его мучитель или освободитель доктор Гроссмайер. И он почти с испугом подумал: уж не в самом ли деле отпустили? Похоже, однако, отпустили, его никто не задерживал и не догонял, и он пошел спокойнее (бежать уже не хватало сил). Ничего не видя вокруг, будто в сером тумане прошел крайние дома местечка и на околице сел, опустил ноги в канаву — силы его иссякли. Идти он не мог и все думал: что же это случилось?
— Вот так и отпустили. Какой-то мужик из Шелупенья ехал на подводе из местечка, подвез до станции. Пришел домой. Анеля на огороде картошку копает, как увидела меня во дворе, так и упала, потеряла сознание. Соседка едва отходила, а я как лег, так и пролежал сутки — не чуя ни рук, ни ног. Все думал: придут, снова возьмут. Жена плачет, говорит: прячься или убегай куда. И правда, три ночи в бане спал, две — в соседской пуньке [10] Сарай для хранения мякины, сена и т.п.
. Но не идут, не берут. Вот счастье! Подарил жизнь этот немецкий доктор. Чудо, да и только!
…Чуда, однако, не случилось — случилась беда.
Напрасно прождав с неделю нового ареста, послонявшись по закуткам и сараям, Сущеня отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Да и надо было помочь Анеле выкопать картошку на огороде. И вот как-то копает, а за изгородью по обмежку [11] Травяная полоса между двух пашень.
от реки идет Игнат Пузыревский, их же деревенский мужик, немного постарше Сущени, и не здоровается. Сущеня поздоровался, а тот, не отвечая, говорит тихо, с издевкой: «Ну что, как живется, друзей продавши?» Сущеня, кажется, потерял дар речи, будто его кто оглушил обухом по голове. Пока он сообразил, как ответить, Пузыревский пошел себе, не останавливаясь, межой к улице. Вот тогда Сущеня впервые, может, понял, почему к нему за неделю никто не зашел проведать — ни соседи, ни родня даже, дядька Петрок или Августина, сестра Анели, ни племяш Костя, который, бывало, не пройдет дня, чтобы раза три не наведался к дядьке. Его сторонились. Потому что он предатель.
Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, десять, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась: бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты пледатель?» — «Какой предатель? Кто тебе сказал?» — «А Шулка Болисов сказал: твой папка пледатель». Ну как было Сущене и перед кем оправдаться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула — жена, конечно, поверила. А может, и не поверила, только сделала вид, что поверила.
— Ну как же мне жить?! — с тихим отчаянием спрашивал Сущеня, глядя в сосняк. Там сначала вдали на вершине сосенки появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом, посидел на верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. — Что было делать? — спрашивал Сущеня. — Я им тогда уже завидовал, моим путейцам: их люди почитали, ими гордились дети. Их семьям помогали соседи. А меня возненавидели. И чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать без всякой причины. И как ей быть? Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку, вдруг как заплачет. Говорит: «Лучше бы они тебя там повесили. Вместе». — «Конечно, лучше, — говорю. — Но вот не повесили, что теперь делать? Разве что самому повеситься?» Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать: не повеситься ли в самом деле? Но как и повеситься? Скажут люди: было отчего. Скажут: совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял: напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надобно опасаться — эта чересчур легкая. Будет похуже. Страшнее! Вот и правда, дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле — кто бы поверил. Ты же вот не поверил, а? Коля! А, Коля? Ты слышишь?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу